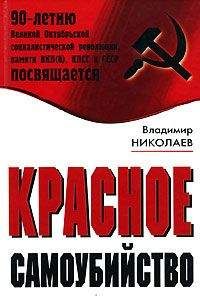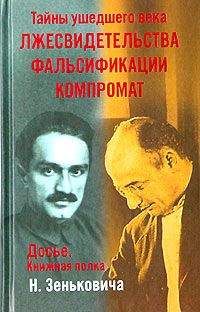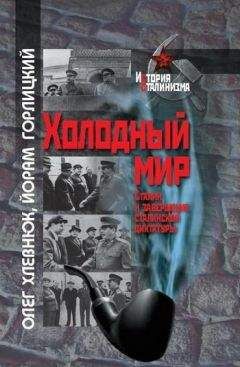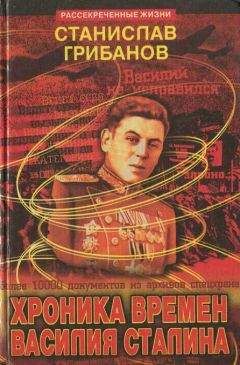Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972)
Напиши о Белле поподробнее. Немного все-таки среди живущих современников людей, которые своим существованием и работой внушали бы такое чувство значительности нашего именно времени. Я мысленно перебираю обойму: Шостакович? Феллини? И обчелся. Прочитал школьную рецензию Владика[174] на роман Ленца (о котором, помнится, наши мнения разошлись; мне так он показался очень значительным). Вообще серьезное отношение к фашизму, когда такие темы не становятся просто полем интеллектуальных забав, мне с каждым днем становится все драгоценнее. Этим меня тронул в том же номере «И.Л.» рассказ Огнева о поездке в Югославию ‹…› Буду ждать с нетерпением немногих уже писем. Обнимаю крепко тебя и Галю; приласкай за меня детишек.
Твой Илья.
Юлию Киму
14.2.72
Дорогой мой Юлик!
‹…› Чувствую я себя, признаться, (обязательно антре-ну!) преневажненько. В чисто физическом смысле: какое-то затяжное непрекращающееся недомогание. К тому же меня огорчает медленная обращаемость писем: я послал Гале еще в конце того месяца сообщение, что свидание будет 27 февраля, а ответа о том, что это принято к сведению, нет по сю пору. Надеюсь, с этим все образуется, а вот с моей сволочной гриппозностью или черт его знает с чем еще и не очень даже надеюсь: уж долго что-то тянется, и премерзко. Сейчас отвечаю по этой причине только тебе, да еще Гале напишу, а на большее меня, пожалуй что, и не хватит ‹…›
Целую тебя, Ирку, все семейство.
Илья.
Георгию Борисовичу Федорову
21.2.72
Мой дорогой Георгий Борисович! ‹…›
Не знаю, что вышло бы из сбывшихся пророчеств Хемингуэя, но если бы сбылись его желания – вышло бы очень хорошо, он Испанию любил слезно и кровно, не за одного Дон Кихота, как аз, грешный, и еще он любил ее нелицеприятно. Меня задело его наблюдение: при фашизме не бывает искусства. Тут и наблюдать было нечего, это было моим аргументом одного памятного мне спора с единомышленником, но, кажется, никакой строй, в котором присутствует л<итерату>ра, действительно еще не самый ужасный, не безнадежный. Когда я говорил о социальных бедах, не в которых, бывает, мы, люди, погрязшие в духовности (теоретической большей частью, это я о себе) и увязшие в эмпиреях, я имел в виду еще вот что. Если неплохие в быту люди склонны тепло говорить о Буонапарте (скажем, о нем; а они это очень склонны), так ясно же, что у них столько житейских интересов, что некогда подумать о моральной стороне того же бонапартизма. Прогресс им, стало быть, нужен, от него дурак откажется – а свобода не очень, разве что в форме познанной необходимости. Можно судить с высоты большей или меньшей начитанности, а можно и понять, что это объективный факт.
Читал в эти дни книгу Черняка «Приговор веков» – о всяких процессах. Тьма новостей, бездна образованности, но я никак не смог уловить этический стержень, урок, разве что нехитрый: во все времена явных или мнимых противников судят, а если судить не за что, то придумывают за что. Любопытно, что писатель в этих случаях проявляется глубже: и так же истукан. О Марии Стюарт, например, Цвейг создал работу, в которой, по крайней мере, чувствуется желание познать не факт, а судьбу, а логику; и прихоть происходящего. Книга Черняка полезная, весьма, но для любителей чистого исторического сюжета; я не из их числа ‹…›
Марку Харитонову
21.2.72
Дорогой Марик!
‹…› Я ощущаю, что неизбежны большие куски отчуждения – так много прожито всеми вами без моего хотя бы отдаленного присутствия. Но надо еще дожить до приезда; климат моего настроения (говоря современными терминологическими идиотизмами) довольно неважный. Но – уляжется, уладится, все будет хорошо, как в песенке о маркизе ‹…›
Завтра воскресенье, это письмо уйдет в понедельник, а пишу я его в субботу. Собираюсь прочесть второй номер «Ин. л-ры» – сценарий Антониони и японский роман «Футбол 1860 года». Последний я обязан дочитать, хотя наверняка скоро его забуду; уж очень он, судя по началу, похож на многие романы наших десятилетий. На неделе начал читать прибывшую в библ<иоте>ку книгу Черняка «Приговор веков»: о процессах, начиная с ордена Тамплиеров. Узнаешь много нового и интересного, но постоянный подтекст чтения: ну и что? – Вообще я сильно устал, душевно ослабел – вот тебе и подтекст и источник подтекста. Но это сетование привычное и, подозреваю, малопонятное.
Vale.
Твой Илья.
Александру Гинзбургу[175]
22.2.72
Дорогие Алик и Ариша!
Я так рад был получить от вас совместную (именно) открытку, что считаю нужным немедленно довести до вашего сведения свои премудрые надежды: тьма рассеется, чад сгинет и непонятное станет понятным. Был бы свежий воздух, возможности безграничной ходьбы, ощущение себя в своем кругу – словом, «тысяча мелочей», которые, мне кажется, после долгого их отсутствия никогда не должны приесться. Я действительно надеюсь, что все будет хорошо, что Алик подремонтируется, что хлопоты улягутся, словом, я еще и еще раз надеюсь, что все будет хорошо.
В Тарусе я был однажды, возил детей по приокским местам, точнее, водил в походе. Она в этих местах для меня до сих пор самое ласковое место, хотя, каюсь, Поленово меня больше заинтересовало. Это произошло по двум причинам: я боялся восторгов под Паустовского, а главное, мало понимал природу. Последнее – предмет моей постоянной сокрушенности; надеюсь, что я немного исправился хотя бы в этом отношении. С нами в Тарусе именно произошли забавные эпизоды; я их пытался рассказывать, бывало, но всегда оказывалось, что они забавны только для участников того давнего похода. Поэтому избавляю вас от этого рассказа. Только напишите мне, жива ли коза (или козел? Я ведь совсем профан в природе), которая без билета и без хозяина утром отправлялась на пароме на противоположный берег, а вечером возвращалась к родным местам?
Мне трудно что-либо писать о себе. Ну, живу, ну, стараюсь читать и не ходить по субботам на фильмы. Негусто с событиями, но это, пожалуй, и к лучшему. Будет время и силы, напишите еще разок-другой: мне-то еще три месяца срока. Ну не будет, не напишется – я не обижусь, понимаю, что у вас много забот. Очень желаю вам доброго настроения, устройства к лучшему и (главное) хорошего самочувствия. Обнимаю вас обоих и Людмилу Ильиничну.
Ваш Илья.
Герцену Копылову
2.3.72
Дорогой Гера!
Так получилось, что я отвечаю тебе сразу на два письма, пришедших очень быстро друг за другом. Мне кажется так только или так оно на самом деле и есть? – что твои недомогания несколько усилили обычную твою ироничность. Я мало что смыслю в медицине, того меньше могу осмыслить происходящее со всеми вами после стольких утеченных во время и за время моего отсутствия вод, но мне как-то показалось, что во взаимоотношениях с людьми у тебя повысился градус максимализма, неснисходительности; это должно углубить, мне кажется, чувство одиночества – не очень-то благотворное чувство для твоего состояния. Меня этот вопрос занимает прежде всего в связи с твоим физическим состоянием, но еще и потому, что это вечная проблема. Если бы, например, здесь я стал бы подходить к людям с предельными мерками, то достиг бы, кажется, отчаянного байронического состояния, малоблагородного, прежде всего, да и далеко не предельно точного.
Почти во всех письмах от наших общих знакомых есть информация о серьезных невзгодах или ощущается ожидание таковых. Грустно, но кажется, это естественно и даже неизбежно – что все должны, и ты в том числе, переживать их в одиночестве.
И Цвейга, и Быкова я прочел. Странно, что обещанного продолжения Цвейга не последовало. Что касается Быкова, то это роман с проблемной тематикой журналистских жанров, но эта линия в наших условиях, наверно, еще долго будет иметь право на существование. В данном конкретном случае жаль только, что дарование другого плана, – повесть была бы скорее приличной и закономерной для С. Смирнова (не того, разумеется, который сам свидетельствовал). Описанные тобой литературоведческие идиотизмы напоминают многое и привычное; но при этом следует отметить правды ради, что это не весь фон: и в издательском мире, и в критическом в том числе, сейчас много просветов (сравнительно много). Очень хотелось бы услышать и о просветах в твоем самочувствии и настроении. Напиши еще 2–3 раза.
Обнимаю тебя.
Илья.
Елене Гиляровой
3.3.72
Леночка!
Я напишу, наверно, мало и скверно. Сейчас пять часов утра, жутко хочется спать и вообще весь разбитый и туго ворочаются мозги. Надо бы отложить, но я и так пропустил одно письмо, а если не напишу сегодня, то письмо уйдет только через 3–4 дня – совсем уж бессовестно.
Прочитал посланные тобою стихи Бродского. Хотел прочесть внимательно, вдумчиво и отзывчиво, но ни с вниманием, ни с отзывчивостью пока ничего не получается. Придется отложить, как и многое другое.