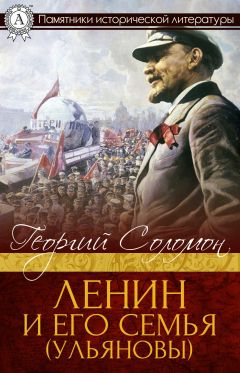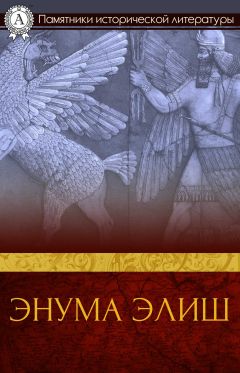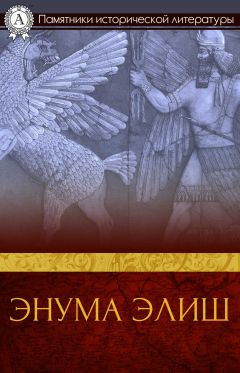Георгий Соломон - Среди красных вождей
Гуковский устроил ему в своем кабинете роскошный прием, в котором и мне пришлось участвовать. Он сидел в кресле с надменным видом выставив вперед свое толстое брюхо и напоминал всей своей фигурой какого то уродливого китайского божка. Держал он себя важно… нет, не важно, а нагло. Этот отжиревший на выжатых из голодного населения деньгах, каналья едва говорил, впрочем, он не говорил, а вещал… Он ясно дал мне понять, что очень был «удивлен» тем, что я, бывая в Петербурге, не счел нужным ни разу зайти к нему (на поклон?)… Я недолго участвовал в этом приеме и скоро ушел. Зиновьев уехал без меня. И Гуковский потом мне «дружески» пенял:
– Товарищ Зиновьев был очень удивлен, неприятно удивлен, что вас не было на пароходе, когда он уезжал… Он спрашивал о вас… хотел еще поговорить с вами…
Потому в свое время, на обратном пути в Петербург Зиновьев снова остановился в Ревел. Он вез с собою какое то колоссальное количество «ответственного» груза «для надобностей Коминтерна». Я не помню точно, но у меня осталось в памяти, что груз состоял из 75-ти громадных ящиков, в которых находились апельсины, мандарины, бананы, консервы, мыла, духи… но я не бакалейный и не галантерейный торговец, чтобы помнить всю спецификацию этого награбленного у русского мужика товара… Мои сотрудники снова должны были хлопотать чтобы нагрузить и отправить весь этот груз… для брюха Зиновьева и его «содкомов»…
Но эти деньги тратились, так сказать, у меня на виду. А как тратились те колоссальные средства, которые я должен был постоянно проводить по разным адресам, мне неизвестно… Может быть, когда-нибудь и это откроется… Может быть, откроется также и то, что Зиновьев не только «пожирал» народные средства, но еще и обагрял свои руки народной кровью…
Так один из моих сотрудников Бреслав (Бреслав – по профессии кожевник, человек малограмотный. В настоящее время, судя по газетам, он назначен заместителем торгпреда в Париже. – Автор.) рассказывал мне, как на его глазах произошла сцена, которую даже он не мог забыть… Он находился в Смольном, когда туда к Зиновьеву пришла какая то депутация матросов из трех человек. Зиновьев принял их и почти тотчас же выскочив из своего кабинета, позвал стражу и приказал:
– Уведите этих мерзавцев на двор, приставьте к стенке и расстреляйте! Это контрреволюционеры…
Приказ был тотчас же исполнен без суда и следствия… Я был бы рад, зачеловека рад, если бы Бреслав подтвердил это…
XXXI
В конце XXIX главы, говоря о приезде в Ревель, Иоффе упомянул о появлении Юрия Владимировича Ломоносова. Ставленник покойного Красина, профессор Ломоносов представляет собою весьма интересную фигуру в сфере советских служащих, и я считаю необходимым более или мене остановиться на нем. До Ревеля мне не приходилось встречаться с ним лично хотя я имел о нем представление по рассказам моей покойной сестры, женщины-врача, Веры Александровны иее мужа, профессора Михаила МихаиловичаТихвинского (Моя покойная сестра Вера Александровна покончила с собой в 1907 году. Ее муж, бывший профессор Киевского Политехникума, был одним из выдающихся русских химиков. Уволенный по приказу Кассо, он в начале войны поступил на службу к Нобелю со специальным заданием разработать вопрос о нефти. Его открытия в этой области обратили на себя внимание всего ученого мира. Но революция остановила его работы. Также, как и моя сестра, он был большевик (классический) по своим убеждениям, но не мог присоединиться к нео – большевизму, т. е., ленинизму, и оставался в стороне от правительства, ведя какую – то научную работу в Петербурге при ВСНХ.Онкрайне бедствовал, хотя и был близким другом Ленина, часто скрывавшегося у него в Киеве. Наконец, он получил научную командировку в Германию. Он должен был немедленно выехать, но накануне отъезда был арестован по делу Таганцева и через четыре дня, по обвинению в «экономическом саботаже», был расстрелян. – Автор.), аттестовавших его, как пустого малого, псевдо-ученого, но человека очень бойкого, эквилибристического и потому добившегося степеней известных, дававших ему возможность широко жить, что особенно ярко сказалось в эпоху его советской службы, когда он поспешил заделаться стопроцентным коммунистом и по протекции Красина стал членом коллегии народного комиссариата путей сообщения, где и расцвел. Он получил командировку в Швецию для наблюдения за постройкой заказанных там (у водопада Тролльхеттан) паровозов. Человек ловкий, совсем неумный, он сумел втереться в полное доверие Ленина, что, конечно, сильно укрепило его и дало ему возможность «жрать». И в советских кругах он даже прославился своим лукулловым образом жизни. Но кроме того, он отличался крайним нахальством и кляузничеством.
Он соорудил себе особый «поезд Ломоносова» использовав для него все ремонтные возможности нашей страны, когда железнодорожные пути были загромождены многоверстными «кладбищами» паровозов и вагонов, которые нельзя было ремонтировать за отсутствием необходимых материалов, машин и инструментов. Поезд этот поражал своей чисто царской роскошью. В Ревеле мне пришлось побывать в этом поезде, состоявшем из нескольких роскошных вагонов и вагона – кухни, где священнодействовал артист – повар, получавший жалованье от казны. Этот поезд в ожидании Ломоносова, находившегося заграницей, стоял на запасных путях и подавался к месту где Ломоносов должен был сесть в него, чтобы ехать в Москву…
Если читатель помнит, мы условились с Ломоносовым повидаться на другой день нашей встречи в вагоне Иоффе. Он пришел ко мне, хвастался своей дружбой с моей сестрой… Потом повел разговор о деле, прося меня переводить ему без задержки средства. Затем около часа дня отправляясь обедать в небольшой ресторан, я пригласил его. В ресторане я подошел к стойке и в честь гостя взял на две тарелочки немного закусок. Ломоносов иронически посмотрел на эти тарелочки, сделал гримасу и спросил:
– И это все закуски? Нет, простите меня, я их дополню…
Он подошел к стойке и возвратился с официантом, несшим еще на нескольких тарелках столько снеди, что ее могло бы хватить на десяток человек… И он стал не есть, а «жрать», противно сопя и хлюпая, отвратительный своим громадным животом Габринуса свисавшем вниз… Он все время рассказывал сальные и совсем неостроумные анекдоты.
Вскоре он уехал в Москву, и через две недели возвратился, чтобы ехать опять в Швецию. Но еще до своего прибытия в Ревель он прислал мне из Москвы телеграмму, в которой сообщал, что Совнарком ассигновал емушестьдесят миллионов золотых рублей, которые должны были придти на – днях в мой адрес в Ревель. И вскоре эти деньги пришли и были мною депонированы в Эстонском государственном банке.
Между тем, я, в виду все возраставших денежных требований ко мне, напрягал все усилия, чтобы не понизить достигнутого мною курса на золото. Я не знал, на каких условиях были ассигнованы Ломоносову эти 60 миллионов, и меня очень тревожила судьба их, ибо я боялся, что он вне контакта со мной начнет «разбазаривать» это золото. Я решил посоветоваться с моими банкирами о том, какой политики надо держаться чтобы ввиду все увеличивающегося спроса на валюту, увеличить количество продаваемого золота не понизив его курса. Задача была нелегкая, ибо, повторяю, я мог рассчитывать только на маленькую стокгольмскую биржу. В день этого совещания приехал Ломоносов.
Я пригласил его участвовать в этом совещании. Он очень запоздал на него. В его отсутствии мы успели наметить несколько мер, из которых главная была – не терять головы, не выбрасывать беспорядочно на стокгольмскую биржу очень больших количеств золота и были намечены некоторые другие пункты сбыта.
Когда пришел Ломоносов, я повторил ему все принятые решения и спросил его, согласен ли он действовать в контакте со мной и не выпускать свое золото независимо от меня. Тут банкир Шелль, умный и корректный, стал энергично настаивать на том, чтобы Ломоносов лично не продавал золота, а действовал при моем посредстве. Он ответил, что, к сожалению, он уже затребовал три парохода из Стокгольма для перевозки тремя партиями золота, но, что он обещает без моего разрешения не продавать ни одного грамма. И затем, попросив у меня слово, он обратился к банкирам со странной, чтобы не сказать больше, речью, в которой, стараясь их разжалобить (а я все время, что называется, держал нос кверху, чтобы не давать повадки), закончил ее патетическим коленом, взяв предварительно для бутафории свою шляпу:
– И вот, господа банкиры, обращаясь к вам с этим заявлением и указывая вам на все трудности нашего положения, я позволю себе просить вас, – тут он протянул свою шляпу к банкирам, как это делают нищие и низко, почти земно кланяясь, он закончил: – не оставьтенас горьких и подайте, не мне лично, а нашему великому, нашему страждущему русскому народу!..