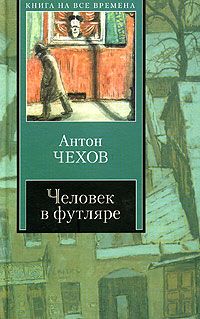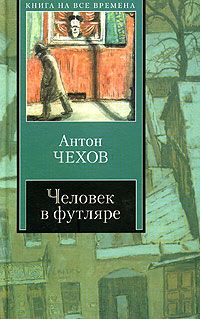Ольга Кучкина - Мальчики + девочки =
– Боже мой, Лиза, да погляди на себя, ты королева!..
– Такая же, как ты, – мягко сказала Лиза.
Одинокая Катя прикусила губу.
Через открытую балконную дверь громко слышались крики птиц, тревожно окликавших, словно звавших друг друга.
* * *Таксист высадил Екатерину Николаевну перед остановкой междугороднего автобуса, обратившись к ней почему-то на трех языках: фюнф паундс, мадам. Автобус № 222, проездом через Челтенхем, остановился в Челтенхеме забрать Екатерину Николаевну и еще человек пятнадцать пассажиров, чтобы домчать их за два с половиной часа до аэропорта Хитроу. Если б это был автобус № 444, он домчал бы их до Лондона, но в Лондон им не надо было, им надо было в Хитроу. Елизавета Николаевна объяснила Екатерине Николаевне все четко.
Убегающий английский пейзаж за окном убегал навсегда.
Пройдя необходимые формальности, Екатерина Николаевна сидела в Хитроу в удобном кресле в ожидании объявления рейса. Прошел рыжий детина, видимо, ирландец, и, видимо, солдат, в светлом камуфляже, правая рука затянута в резиновый бинт, должно быть, потянул, бедолага, стреляя. Симпатичная толстуха, вся в белокурых прядях-спиралях, которые она время от времени взбивала, глядя вокруг себя круглыми глазами, с трудом засунула себя в кресло рядом с Екатериной Николаевной, круглый полуоткрытый рот обнажал круглую подковку белых, таких же, как у Лизы, зубов. Рабочий в синем комбинезоне, похожий на Чичваркина, вооруженный длинным шестом, проверял какие-то устройства на стенах зала.
«Мои лучшие пожелания леди Н.: ее отъезд, вместе с еще несколькими моими друзьями, явился печальным событием, повергшим меня в состояние ледяного одиночества. На водах Челтенхема я сидел и пил , вспоминая вас…» – читала Екатерина Николаевна записку лорда Байрона лорду Холланду от 10 сентября 1812 года в книге, подаренной Елизаветой Николаевной.
Чичваркин извинился, что потревожил даму, проверяя шестом что-то непосредственно возле нее.
СТРАНА
Пробовала разное.
Жить растительной жизнью, одна, в пустом доме на окраине поселка, с поселковыми, но далеко от них, только с травой, палыми прошлогодними листьями, смородиной, бузиной, рябиной, синицами и воронами, куском голубого неба сквозь кудрявую сеть берез и кривизну сосновых сучьев, с дождями, заливистыми, как соловьи, и проливными соловьями, с дымящимися утрами и звездными вечерами, то есть с ежедневным обращеньем к природе, как к Богу, что, возможно, и есть истинное, но навсегда – невозможное, как невозможно, к примеру, пить одну воду из родника, обязательно потянет на какую-нибудь дрянь типа сосисок или котлет. Кого-то, может, и не потянет, кто сам чист, вроде родниковой воды, да я-то дрянь, вроде котлет с сосисками, потому менялась и меняла растительную жизнь на поездки, скажем, к старикам. Отпуск все равно кончался.
Приезжаю. Пэгги, домашнее прозвище одной из любимых старух, слепнет, катаракта, подобно каракатице, наползает на глаз, заслоняя мутным, хоть и стекловидным телом хрустальный хрусталик, а стало быть, свет в него не попадает, одна сплошная тень, и из тени возникают не живые картины дочери, внучки, а тем более крошечной правнучки, а картины памяти о давно прошедшей молодой жизни, ЭПРОНе, в котором работала, умерших возлюбленных, и слезы набегают, но не на хрусталик, а на нечувствительную катаракту, которая закрыла хрусталик, делая и слезы нечувствительными, бегущими просто так, ничего не омывающими, не облегчающими и уж, разумеется, не просветляющими. Пэгги гладит мои руки своими худыми, темными, сморщенными, похожими на птичьи лапки, куда девались те молодые, гладкие, сильные, которыми в ЭПРОНе спасала тонущих на воде, трогала свои пунцовые и тоже гладкие щеки, обнимала эпроновца, обнажала острый сосок, чтоб напитать живым молочным соком гладкое тельце своей ныне расплывшейся, успевшей поседеть и измучиться дочери. Я слушаю Пэгги сначала внимательно, потом думаю о своем, в некоторых местах переспрашиваю или вставляю дельное замечание, хотя какие дела, дел никаких нет. Прощаясь, прижимаю к себе птичье, высохшее, обесцвеченное тельце и испытываю дикую смесь жалости, равнодушия и облегчения. А чего, спрашивается, ездила? Ездила и еще поеду.
Если это не Пэгги, то Алексей Веньяминыч. Его экономка, бородавчатое приветливое существо, ставит на стол свежее печенье, сама пекла, и жидкий чай, Алексею Веньяминычу крепче нельзя. У Алексея Веньяминыча вставная челюсть и недюжинный ум. Фарфоровые, или какие они там бывают, искусственные зубы перемалывают экономкино печенье, ясный ум перерабатывает ворох политических, социальных и обыкновенных житейских новостей, которые привожу я и одновременно приводит телевизор. Он размышляет вслух: население варварское, если раньше трещина мира проходила через сердце поэта, сейчас она проходит через мозг гражданина, а граждане с расколотыми мозгами, сами понимаете, какую ценность они могут представлять.
Я понимаю. Я понимаю все. Смесь боли, жалости и равнодушия заливает мои мозги, расколоты они уже или все еще нет. В ответ говорю: я не знаю, что такое талант, я знаю, что такое сосредоточение.
С Алексеем Веньяминычем хорошо. Мы сообщаемся, как сообщающиеся сосуды. Не в том смысле, что его уровень выше, а мой ниже, в этом тоже, но больше в том, что есть сообщение. В других сообщениях и других отношениях много мусора: неутоленных желаний, тайных амбиций, глупости. Со стариками, как с детьми, – ясность. Гений ясности живет в детях и стариках. Если первые не дебильны, а последние не в маразме. До свиданья, Алексей Веньяминыч, живите долго, живите вечно, если можете, я хочу потягивать ваш жидкий чай и слушать ваш дребезжащий голосок всегда.
* * *Вру. Всегда не могу. Бросаю стариков, потому что пора на работу. И на работе вдруг, среди бела дня, ни с того ни с сего, ввергаюсь в пучину общественной деятельности: вступаюсь за честь и достоинство Марь Иванны. Наверное, следовало бы сказать по-другому, поскольку речь идет о жилье. Но я говорю так. Не поленилась, съездила, своими глазами поглядела на то, что язык не повернется назвать человеческим жильем. Узкая-преузкая конура, где аккурат составились две кровати, Марь Иванны и ее от рождения немого сына, какой домостроитель это уродство сочинил, может, если только не для человека предназначено, а для какой-либо техники, тем более, что и подслеповатое окошечко как бойница, а внизу, под ним, через неаккуратные промежутки времени, громыхают поезда. Видно, было какое-то железнодорожное обслуживающее здание, а потом в нем поселили людей и забыли. Забыли не всех. Какие могли за себя постоять, те выехали. Вечером идешь, часть окон темная, дом, видно, что полупустой, а часть светится, и Марьиваннина бойница светится. Марь Иванна, пришибленная, всю жизнь несущая какую-то ей самой неясную вину перед людьми, в том числе за немого сына-безотцовщину, внезапно, после долгих лет молчания, начала скандалить и качать права, после чего ее принялись отправлять на пенсию, решив, что она психическая. Спасибо, что не в психушку. И это потому только, что предприятие у нас перестроечное и директор – перестройщик, его и по телевизору в дебатах показывали и в газете портрет напечатали. А Марь Иванна тоже хороша, раньше помалкивала, а когда принялась скандалить, сделала это самым бестактным образом: в кабинете у директора, когда у того собрались гости – друзья, а главное, враги перестройки, которые могли этот факт использовать против. Ему бы немедленно взять и исправить допущенную ошибку как перестройщику. А он зашелся как администратор. Старое же более вечное, чем новое. Среди гостей моего директора был один газетный редактор, тоже перестройщик. Я взяла и пошла к нему. Он принял ласково, угостил кофе, предложил рюмку коньяку, настолько свободен. Я и прежде знала его как свободного человека, лет двадцать назад, потому и пришла, что была уверена. Однако рюмкой кофе и памятным поцелуем все ограничилось. Встрече обрадовался, сиял, топорщил сизый ежик ухоженной ладошкой, словно волнуясь, был внимателен, слушая изложение вопроса, но в какое-то мгновенье уловила опустевший взгляд, будто из него ушли, как из дома, оставив, впрочем, дверь по-прежнему гостеприимно распахнутой. Я замолкла, он встал, обошел кругом маленький кофейный столик, разделявший нас, положил руки мне на плечи и сказал: а помнишь, маленькая?.. Я не ответила. И не из-за Марь Иванны, не потому что это было бы предательством по отношению к ней, какое мне, в конце концов, дело до ее жизни, когда я свою прожить по-людски не умею. Не ответила, поскольку ответить нечем, все тысячу раз прогорело, и перегорело, и пеплом в трубу вылетело, ничего не получается, и тут не получилось. Марь Иванну отправили на пенсию, и все облегченно вздохнули. Она успела многих обидеть, в том числе пользующихся общим уважением, и создалась такая дурная бесконечность: человеку плохо, ему надо помочь, она обращается и надеется, а не выходит, и делается еще хуже, и она у всех в печенках. Вздох последовал от облегчения совести. А Марь Иванна еще и пришла облить директора благодарными, слезами: из одиннадцатиметрового пенала, ему благодаря, переехала аж в двадцать метров отдельной площади. Она и мне пришла рассказать, как, не сдержавшись, обслюнила борт стального директорского пиджака, любимый цвет администрации. Всем стало легче. Кроме меня. Хочу – казню, хочу – милую, как было, так будет, пробормотала я в ответ, на что Марь Иванна с неожиданной проницательностью заметила: это ты, голубка, сердишься, что не тебе благодарны. Хорошо еще, что я не добавила насчет чести и достоинства. Что с ними в нашей стране делать, не стелить вместо ковра, не жевать вместо антрекотов. Человеку стало лучше, и ладно. Когда у нас было иначе? Никогда. Когда будет? Я этого не узнаю.