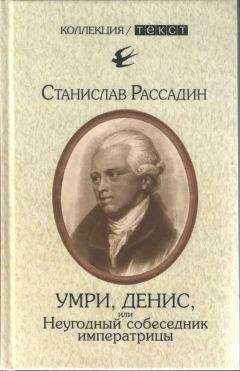Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
«…Души их, не подавленные форменностью, были раскрыты», — говорит Аксаков. Если иметь в виду то, что неотвратимо происходило в империи Николая, надо присовокупить: еще раскрыты.
Как оказалось потом, эти университетские годы формировали людей незаурядных: из одного только курса с Александром Сухово-Кобылиным вышли Юрий Самарин и Федор Буслаев, — да отчего бы не назвать и Михаила Каткова? Кем бы ни сделался он впоследствии, личность в любом случае не из дюжинных.
Хотя слова о душах, «не подавленных форменностью», нуждаются в пояснении, ни в коем случае не лестном для Сухово-Кобылина.
Вновь слово Аксакову:
«Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собою всю пошлость, всю наружную благовидность и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократки сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства… Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наполняла нашу словесную аудиторию во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, которую обязан был слушать и первый курс. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотою их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; с этих пор начал раздаваться в аудитории язык французский. Не даром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность — завладели университетом и принесли свои гнилые плоды».
Не мной и не раз уж было замечено: эти слова могли быть прямо, в упор и в укор сказаны Александру Сухово-Кобылину. Да их и сказал — если не сын, не Константин Аксаков, то отец, Сергей Тимофеевич, написавший в письме к Надеждину, касаясь все той же печально-смешной романтической истории, что младший Кобылин в свои семнадцать лет «напитан лютейшею аристократией».
У этой «аристократии», пропитавшей его характер, своя предыстория и история, а пока отметим, что Александр Васильевич, уверенно занявший свое — свое! — место в светской жизни, занятый тем, чем и надлежит быть занятым молодому, богатому, родовитому человеку его среды, ко всему, не забудем, отменнейшему красавцу: балы, романы, «джентльменские скачки», в которых он, как и всюду, одерживал победы, — при всем при том далеко не был чужд некоему неуютному чувству.
«Мое письмо будет очень коротко и ясно, — напишет он тому же Константину Аксакову, с которым дружествовал, но разошелся (и развела их надеждинская история, где младший Кобылин как раз и лютовал). — Так как мы всегда находились с тобой на противуположных полюсах, то я и теперь удерживаю свое положение относительно тебя. Ты много пишешь — я мало, ты много думаешь — я очень мало, ты весьма много чувствуешь — я ничего».
Но человек, и впрямь мало думающий и мало чувствующий, так про себя никогда не напишет. И, пожалуй, еще одно сомнение. Не была ли «аристократия» молодого Кобылина, — о, конечно, только отчасти, до известной, вернее, неизвестной степени — порождением той странной стыдливости, которой обуян герой «Египетских ночей» Чарский (образ, которому, как известно, Пушкин передал некоторые собственные черты и, выражаясь по-сегодняшнему, комплексы)?
«Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах и на всяком званом вечере был так же неизбежен, как резановское мороженое.
Однако же он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие».
Аналогия, как и все они, приблизительна и относительна, тем более, что в годы, о которых идет речь, «дрянь» еще не имеет над Сухово-Кобылиным неодолимой власти, — это явится позже и принесет ему и нам «Свадьбу Кречинского». И все-таки внутренняя его жизнь покуда прячется от сторонних глаз (так спряталась, что мы и сегодня о ней больше догадываемся, чем знаем), — прячется на удивление стеснительно для столь надменного светского льва, для человека, который словно бы затем и рожден, дабы не знать для себя препон и преград.
Он их и не знает, уверенно побеждая — в свете, на скачках, в женских сердцах, — но притом уже несет в себе некую странность…
«Едва ли кто-нибудь возбуждал к себе такое общее недоброжелательство. Причиной этого была его натура, — грубая, нахальная, нисколько не смягченная образованием; этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливавшимся ни пред какими злоупотреблениями крепостного права; дворня его трепетала».
Говорит враг, вражду свою доказавший деятельно и не единожды, — Евгений Феоктистов, — что ж, тем интереснее высмотреть в его неприязненной речи то, что сочувственная благорасположенность расценила бы и назвала иначе. «Общее недоброжелательство» — ведь это же положение человека, которое тот, кто к нему, к человеку, снисходителен и добр, кто способен глянуть с его точки зрения, назовет одиночеством.
Все это тем удивительнее, что светская жизнь, как известно, предназначена не для анахоретов и мизантропов. Она по сути своей прилюдная, компанейская, — а Александр Васильевич и в ней стоит наособицу, вообще ни с кем не составляя неразрушимой компании. Даже с теми, с кем ему так нетрудно, да, кажется, просто нельзя не найти общности. Нет, однако. Дружил с Огаревым — разошлись. С Константином Аксаковым — тоже. И когда последний с презрительной ненавистью пишет об «аристократиках», ненавидя их скопом, как «щегольскую ватагу», толпу, то именно по этой причине его презрение никак не может коснуться Александра Сухово-Кобылина, в чем, в чем, а в пристрастии к стадности уж точно не уличенном.
Тех «лютейшая аристократия» сбивала в кичливую ватагу, кичливой пошлостью как раз и объединенную, — у него ж даже и схожее самоощущение вело к одиночной отдельности.
Меж землей и небесами
— Я ненавижу чиновников… Сам я никогда не служил и в департаментах являлся только просителем. Еще в молодости у меня было хроническое отвращение к чиновникам. Маменька вздыхала: «Ах, Alexandre, как ты упрям!» Я отвечал, смеясь: «У меня и на могиле, маменька, будет надпись: «Никогда не служил»…
«… В департаментах являлся только просителем»… Теперь уж не установить, что и кто причиной этой неточности: Юрий ли Беляев, записавший слова старика Сухово-Кобылина, сам ли старик. И если сам, то для чего, спрашивается, умолчал о довольно долгих годах из своей очень долгой жизни, с 1842-го по 1850-й? О тех, в которые он хоть формально, практически не служа, а всего только числясь, но пробыл в канцелярии московского гражданского губернатора, сперва получив производство в коллежские секретари, потом и в титулярные советники?..
Словом, «он был титулярный советник». Был. Служил. Но стер восемь служилых лет из своей памяти.
Может быть, именно долгота жизни незаметно обратила эти некраткие годы в летучий, несущественный и потому несуществующий миг, — да он и впрямь как бы не существовал, учитывая мнимость службы. А возможно, попросту не хотелось помнить, досадно было вспоминать, что все же случилось такое, что формально или неформально, но отступил, стало быть, от завета своей гордой юности.
Добавим, что не одна лишь юность — тем паче не только его собственная — продиктовала этот завет.
В 1835 году, когда восемнадцатилетний своекоштный студент Александр Сухово-Кобылин на втором своем курсе слушает лекции по дифференциальному исчислению и высшей алгебре, тридцатипятилетнему стихотворцу Евгению Баратынскому приходит на ум странная мысль сочинить стихотворение с не менее странным названием «Недоносок», — тогда это могло пониматься и как «мертворожденный»:
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду слабея.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Поэты говорят обиняками, и, вероятно, потому они способны вдруг, будто нечаянно, изловить то, что не дастся самой мощной мысли, прямо идущей на бесстрашный приступ. А уж потом — наша воля и, может быть, право разглядеть в этом удивительном способе уловления истины личный и даже исторический опыт, который неприметно, неявно принудил поэта избрать именно этот способ, пройти именно этим путем.