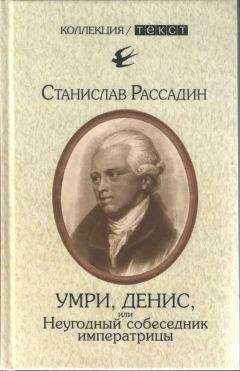Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
Ничего подобного. Наоборот. Михаил Павлович считает, что уступка недостаточна:
«…Зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers-etat, сию вечную стихию мятежей и оппозиции?»
Что же отвечал государеву брату Пушкин?
«Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством. Что касается до tiers-etat, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».
Невероятная, казалось бы, картина. Великий князь выступает за демократизацию дворянства, он хочет пополнить его за счет tiers-etat, «третьего сословия», а великий поэт вроде бы брюзжит и ретроградствует?
Самому Пушкину был ясен парадоксальный комизм этого спора, — он его и заключил шуткой:
— Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы — революционеры и уравнители.
А Михаил Павлович, обладавший (отдадим ему должное) чувством юмора, охотно ее подхватил:
— Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы!
И, вероятно, расхохотался своим характерным («Ха! Ха!»), резким смехом. Хотя на самом-то деле оба, Михаил Романов и Александр Пушкин, оставались на своих местах. Пушкин ратовал за сохранение того сословия, у которого нет нужды благодарить за свое происхождение и положение ничью личную волю: «Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом». Романов же стоял за доступность дворянского звания — хотя бы отчасти — и потому, что в таком случае о независимости речи быть не могло: новоиспеченные дворяне все были обязаны непосредственно власти.
Этот парадокс, многими неразгаданный, обходился Пушкину дорого. К примеру, даже Рылеев стыдил его: «Ты сделался аристократом: это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?» — а Александр Сергеевич, отвечая ему по существу, не мог удержаться, чтоб не поставить нотабене и не приписать: «Мое дворянство старее», то бишь шестисотлетнее. Что ж говорить о Булгарине, Полевом, да и Надеждине, о «демократах», издевательски попрекавших его боярской кичливостью?
Как известно — и также не раз было вышучено, — Пушкин настойчиво напирал на заслуги собственных предков перед Россией. «Водились Пушкины с царями… Бывало, нами дорожили…» — назидательно-укоризненно повторял он в стихотворении «Моя родословная», а в «Борисе Годунове» заставлял царя особо выделять их среди прочих бояр, характеризуя вполне недвусмысленно: «Противен мне род Пушкиных мятежный». Или просто выводил родичей на первый план истории, как поступил в том же «Борисе» с Афанасием и Гаврилой Пушкиными.
Известно и то, что он порою, как говорится, выдавал желаемое за действительное.
На то были свои причины, начиная с наиболее частной, с того, что для родового дворянина начала девятнадцатого века история — в некотором смысле семейное дело: ее творили или по крайней мере в ней представительствовали люди, чьи прямые потомки были Пушкину близко, порою и совсем коротко знакомы, — так отчего ж и его предкам не выйти на авансцену истории? Дело возможное. А кроме того, говорим-то мы о поэте, которому, чтоб он не выглядел в собственном воображении подкидышем истории или капризом судьбы, с чего-то вздумавшей одарить его талантом, нужна внушительная родословная, — и вот Пушкин видит влиятельность и бунтарство в своем рано захудавшем и смирном роду, «обманутый сын» Лермонтов ищет в древности испанца Лерму и шотландца Лермонта, а Денис Давыдов через действительного предка, мурзу Минчака, докапывается, страшновато подумать, до самого Чингисхана…
Но была, надо думать, и еще одна причина.
Пушкин сравнивал старое боярство не только с рыцарством Запада, но и с положением и настроениями современного ему дворянства, — а оно в ту пору уже переживало значительнейший кризис.
Снова Герцен:
«В обществе стали часто распространяться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей».
Речь о «большой перемене», происшедшей в общественном мнении России после 1812 года и ставшей важным симптомом внутреннего — да и внешнего — разобщения вчера еще относительно единого класса, дворян. Разобщения тем более естественного, что принесенная с войны «французская болезнь» (острое словцо Вяземского) лишь обострила давно уже возникшее противоборство между потомственными дворянами и «новой знатью», то есть дворянством, недавно жалованным, тем, что возникало из небытия и спешило пользоваться скоропалительной и прихотливой милостью царей.
Еще в 1822 году в «Заметках по русской истории XVIII века» молодой, почти юный Пушкин яростно пишет об «аристокрации», — в его словоупотреблении это как раз они, новые и новейшие выскочки, — связывая начало ее торжества с Екатериной, с царицыными не только правилами, но и безобразиями:
«Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила свое государство».
К самой Екатерине, к делам ее пушкинское отношение в дальнейшем менялось, но отвращение к временщикам, к «вовсе неизвестным фамилиям» не ослабевало. Наоборот, становилось крепче, ибо обдуманнее. И все отчетливее с годами осознавалась роль тех, кто, по пушкинской мысли, только и был способен реально противостоять — временщикам ли или самому деспотическому правлению, «низкому и дряблому деспотизму». Роль потомственных дворян.
Они казались ему единственным надежным оплотом «чести и честности», а их права, гарантированные потомственностью, — возможностью наилучшим образом исполнить долг перед обществом.
«Что такое дворянство?..»
Риторический этот вопрос, заданный себе самому в предвкушении своего же ответа, — из заметок Пушкина «О дворянстве», набросанных в тридцатые годы и построенных по принципу классического катехизиса: вопрос-ответ, вопрос-ответ; за словом здесь в карман не лезут.
«…Потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целию? с целию иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? Люди, которые имеют время заниматься чужими делами…
Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».
Стиль — человека или целой эпохи — не умеет лгать, и стоит только сопоставить катехизисное простодушие Пушкина, его прозрачную ясность, это свидетельство уверенной мысли, не то что пришедшей или тем более пока еще пробивающейся к истине, а как бы получившей ее по закону наследования, — стоит сравнить их с документом, написанным через шестьдесят лет, как сразу поймешь, что за эти десятилетия совершилось:
«Что такое дворянин? — как ни просто это слово, как ни обычно и как ни ясно кажется каждому из нас понятие о том, что такое дворянин, — но я уверен, что каждый из нас крайне затруднился бы пред определением своего представления о том, что такое дворянин. Общее понятие, скорее чувствуемое, чем осознаваемое, слово «дворянин» является в виде неясного представления чего-то избранного, привилегированного, неодинакового со всеми остальными людьми, окружающими нас… Не тот дворянин, который носит это слово как кличку, а который по существу дворянин, в душе дворянин, т. е. благороднейший и образованнейший человек…»
«Уж не пародия ли?..» Нет, то есть — да, но невольная, и бедный автор книги «Задачи дворянства» (1895) ничуть не повинен как стилист в этом косноязычии, которое, кажется, вовсе даже и не прочь быть и оставаться косноязычием, — лишь бы не сказать ничего определенного. Потому что сказать — страшно.
К этому времени дворянство как единое содержательное понятие перестанет существовать, потерявши признаки, по которым только и можно судить, чем оно отличается от других сословий, понятий, явлений и отличается ли вообще, — судить, не прибегая к стилю и тону беседы Чичикова с Маниловым о прокуроре или председателе казенной палаты: «благороднейший и образованнейший человек». А какая прекрасная целостная утопия вставала из пушкинских вопросов-ответов, словно бы доброжелательно сияющих от собственной понятности и неопровержимости!..