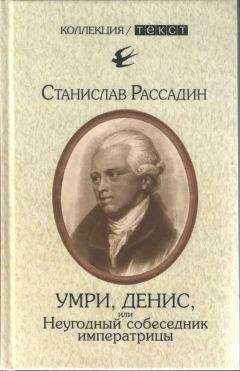Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
— Бывало, и сам сдачи дашь и сам вкатишь в рыло, — потому — рыло есть вещь первая!.. Ну нет, вчера не то… нет, не то!
Вопрос: в чем разница между «ложью» и ложью? «Выдумкой» и выдумкой? Искусством — и клеветой, сплетней?
В очень многом, во всем, а в частности — в том, что искусство открывает и постигает, обогащая собою окружающий мир, сплетня же обкрадывает его, не сверяясь с правдой, предпочитая ее калечить.
Не утратим ли мы, однако, чувства юмора, умствуя этак вокруг непритязательной расплюевской выдумки?
Нет. Потому что озорной и веселый миф, по-своему обаятельный (как — очень по-своему — обаятелен сам Расплюев, неунывающий, неистощимый и плотоядный), даже, пожалуй, трогательный, ибо Иван Антонович выстрадал этот миф битым рылом, по житейской, по жизненной сути он страшен. Зловещ.
Помещенный в комедию, он имеет полное право быть смешным и только смешным, так как не преследует в ней никакой корысти, являясь тем, чем является: импровизацией пострадавшего шулера, не больше и не хуже того. Но художник творит и затем, чтобы, как сказано Блоком, «по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар», — да не только по этим трагическим заревам, а хотя бы и по комедийной искрящейся пиротехнике, по улыбке, по хохоту, по насмешливому подмигиванию.
В «Смерти Тарелкина» расплюевская фантазия, смелея и раскрепощаясь, дорастает до того, что «все наше отечество (опять — все!) — это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого (всякого!) подозреваю», — да если и не заглядывать в пьесу, которая еще бог знает когда будет написана, если не отлетать мыслью от «Свадьбы Кречинского»: разве упомянутый механизм импровизации Расплюева на тему маленькой островной Англии, которой, по тесноте ее, только и остается, что держаться боксом, — это не механизм рождения любой шовинистической легенды? Той, которой мало, что мы хороши, надобно, чтобы они были ничтожны и плохи?
У Расплюева этот механизм запускают в ход только невежество, нелюбопытство да битое рыло. В ином, не расплюевском случае вступит в дело и злоба. И иные скверности, — но без невежества, хотя бы только духовного, не обойдется нигде.
Возможно — и даже наверняка, — не стремясь к этому и все же волей-неволей художника обнажив механизм создания подобного мифа, опасной ли клеветы или обыкновеннейшей сплетни, Александр Васильевич Сухово-Кобылин ничуть не подозревает, что все это отныне и неотступно будет сопровождать его жизнь. Жизнь личную, частную, да и творческую, ибо что же такое драма «Дело», как не история легенды о несуществующем преступлении, рожденной уже не с расплюевской бескорыстной беспечностью, но со злым, расчетливым, хищным умыслом?
И сам он надолго, до смертного часа (и после него), станет и останется персонажем легенд, злобно клеветнических или небрежно-безобидных, от обвинения в несовершенном убийстве до репутации сочинителя одного-единственного сколько-нибудь стоящего произведения.
Начнем с безобидных.
«Мы обязаны тремя превосходными пьесами ужасной случайности.
«Свадьба Кречинского» — это плод тюремной тоски…
Сидя в тюрьме, он от скуки рассказал в драматической форме ходивший в то время по городу анекдот об одном очень светском господине, оказавшемся шулером, который заложил известному дисконтеру стразовую булавку за брильянтовую».
В трех фразах благожелательнейшего Власа Дорошевича соответственно три не страшных, не оскорбительных, но — неправды.
К ним добавит свою — нет, не четвертую неправду, а всего только самоуверенную и малограмотную развязность Димитрий Языков, без разбору подвизавшийся в начале нашего века на доступном поприще литераторских биографий (доступном, ибо мало кого соблазнявшем в ту пору):
«Сидя в тюрьме и не зная, чем заполнить бесконечно тянувшееся время, А. В. Сухово-Кобылин решил от нечего делать заняться литературой. Сюжетом для своего первого произведения он избрал скандальный случай…» — ну, и далее, само собой разумеется, про изрядно нам надоевшего поляка Крысинского и про подмененную им булавку.
Чтобы отделаться от последней, скажу, что, когда «Свадьба» попала на Александрийскую сцену, петербургский журнал «Пантеон», подивившись незаслуженному успеху незначительной, незанимательной и непоучительной истории про двух шулеров и дурака-отца и объяснив восторг публики единственно отличной актерской игрой, среди несообразностей этого сценического пустяка отметил и нижеследующую:
«Да и естествен ли весь ход и развязка пиесы? Весь фокус-покус с булавкою едва ли сбыточен. Ростовщик, взявший вещь в залог, должен ею довольствоваться. Если же он распечатал ящик с залогом, то на него первого падает подозрение, что он подменил солитер. По подобному обвинению полиция не пойдет с ростовщиком брать под стражу Кречинского».
То, что едва ли (допустим) сбыточно на подмостках, на практической почве сбыточным быть уж никак не способно.
Булавку мы из легенды вынули. Что осталось?
Остались: «случайность… плод тюремной тоски… от нечего делать…». То есть — законченный образ законченного дилетанта, который если бы не угодил под арест, то, вероятно, и не взялся бы за перо. Зачем, ежели нет повода для тоски и не затомило безделье?..
Что до ареста, он, как известно, был. Была, не могла не быть и тоска. Не было случайности. Не было безделья. Не было дилетанта.
Лето 1852 года, дневник, — и среди записей о болезни и выздоровлении, об обеде и родах любимой сестры Душеньки:
«Зачатие Кречинского».
Из поздней автобиографии:
«В 1852 году начат был перевод гегелевской философии истории. Совместно с этой умственной работой в свободные минуты начал писать свои драматические произведения. В 1854 году перевод философии истории был исполнен и с сим была окончена и комедия «Свадьба Кречинского»».
И еще — из воспоминаний:
«Подошел 1854 год, когда я был подвергнут второму аресту по делу об убийстве Луизы Симон. Арест продолжался шесть месяцев, и все они были употреблены на отделку и обработку «Свадьбы Кречинского». Каким образом мог я писать комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч рублей, я не знаю, но знаю, что написал «Кречинского» в тюрьме — впрочем, не совсем, — ибо я содержался (благодаря защите княгини Гагариной и Закревского) на гауптвахте у Воскресенских ворот. Здесь окончен был «Кречинский»».
«Каким образом мог я писать…» — это значит: писал не от тоски, а вопреки тоске. Признание важное, и разница немалая, — писать вопреки, несмотря ни на что, это уже «не могу молчать». Если не навык профессионала, то непреодолимая потребность художника.
Что предваряло это самоощущение, пришедшее, что ни говори, отнюдь не рано: 1852 год — это тридцатипятилетие Сухово-Кобылина?
Такие шедевры, как «Свадьба Кречинского», конечно, не вырастают на необработанной почве; мы просто не видим неслышной подземной работы корневищ, а здесь ее от нас к тому же скрыли, выставив наружу, напротив, именно то, что наводило — и навело — на мысли о случайности.
Спустя сорок лет после первой постановки «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич рассказал Евгению Салиасу, племяннику, сыну сестры Елизаветы, из чего родилась, вернее, как зародилась первая комедия.
Около 1851 или 1852 года, припоминал старый Сухово-Кобылин, будущая Евгения Тур сочинила некий пустячок, сценку из светской жизни. Брат попрекнул ее: зачем разменивает талант на мелочи? «Конечно, стали говорить о сюжете, и я посоветовал написать нечто вроде будущего, т. е. зарождающегося, «Кречинского». Спросили лист бумаги, и я начал писать scenario».
У человека, хоть мало-мальски знакомого с историей знаменитых книг, это, конечно, не может не поднять с самой поверхности его эрудированной памяти начальную историю романа «Двенадцать стульев», для которого Валентин Катаев в роли Дюма-отца взялся сочинить план в помощь и поощрение двум начинающим соавторам, — тем более что соавтор объявился и на сей раз: Елизавета Васильевна сговорилась писать вместе с тут же случившимся знакомым офицером.
В самом деле, пока все совпадает в точности:
«Я должен был составить весь план, за что я на другой же день и принялся».
Правда, сходство, едва возникнув и укрепясь, на том и заканчивается. Составляя план, Сухово-Кобылин увлекся и написал целую сцену, первый выход Расплюева. Потом же соавторы и вовсе стушевались, дело у них не заладилось, а новоявленный Дюма-пер расписался. И писал — неравномерно, однако уже не оставляя замысла, пока тот и не был завершен на гауптвахте у Воскресенских ворот.
От дилетанта здесь разве что лишь неравномерность работы, но уж никак не неуклонность, с какой он к ней возвращался. И неожиданность, с которой возник замысел именно «Кречинского» (к слову спросить, не все ли вообще замыслы возникают неожиданно и непроизвольно?), вовсе не обозначала случайности обращения к словесному творчеству. Начну с того, что среди ранних и поздних сухово-кобылинских записей можно изловить то «несколько стихотворений по-немецки», сочиненных в юности, то «первое авторство», оно же — «самая романтическая повесть», писавшаяся (дописанная ли?) по ночам; главное, впрочем, не в том, были ли — и каковы были — его «мечты и звуки»…