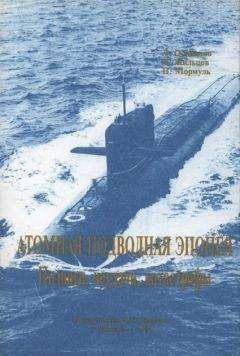Анатолий Елкин - Атомные уходят по тревоге
Что оставалось делать «Сибирякову»?
Отступить? Но тогда линкор разнесет порт Диксон, зимовки, потопит стоящие в порту суда. Его нужно задержать. Задержать во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. Задержать, чтобы приготовились к бою товарищи, чтобы подоспели наши корабли и самолеты.
Задержать!..
— Принимаем бой! — сказал Качарава комиссару.
В подобных обстоятельствах так мог решить только капитан, абсолютно уверенный в своем экипаже. Уверенный в том, что этот экипаж не может думать иначе.
«Всем, всем, всем! — полетело в эфир открытым текстом. — У Диксона фашистский рейдер… Всем, всем, всем!..»
Яростно заклокотала вода за кормой, и ошарашенные гитлеровцы, привыкшие, что перед дулами их орудий почтительно спускали флаги не такие корабли, увидели, как этот сумасшедший русский корабль, вопреки всем законам и нормам войны, пошел на них в атаку.
Пошел на смерть.
Они были опытными моряками и знали, что значит принять бой в таких условиях.
— Бронебойными!
Нет, сибиряковцы не думали о победе. Нет!.. Только бы успеть попасть… Попасть как можно больше раз, пока заговорит главный калибр пирата.
Мощные смерчи воды вздыбились у ледокола.
«Сейчас все», — мелькнуло у Качаравы.
— Огонь!..
Рушились, пылали палубы, мачты, надстройки, шлюпки.
— Огонь!
Обливаясь кровью, падали люди.
— Огонь!
Осколки фугасных снарядов кромсали тело корабля.
— Огонь!
Рвутся бочки с бензином!
— Огонь! Огонь! Огонь!..
Стрелять уже нельзя. «Сибиряков» тонет.
— По шлюпкам!
Но уже мало было тех, кто мог выполнить эту команду.
Уже с воды оставшиеся в живых увидели высоко задранную корму корабля, изрешеченный осколками боевой флаг и комиссара Элимелаха, держащегося за флагшток. Казалось, он поднимает моряков в атаку…
Море принято сравнивать с пустыней.
Море — не пустыня.
Глубоко под водой здесь лежат в ракушечнике и водорослях гордые корабли: «Сибиряков», «Пассат», «Туман», подводные лодки.
К ним не придешь на поклон, не принесешь цветы, не постоишь в молчании. Каким подвигом, какой ценой завоевана победа! Корабли Краснознаменного Северного… Пусть не все они вернулись на базы, но они — в сердце.
Они — в сердце.
Только на штурманских картах помечены координаты их могил.
4— Аркадий Петрович, по времени должны быть на месте.
Михайловский буркнул:
— Может быть, так оно и есть… Но над нами — сплошной пак. Что на эхоледомерах?
— Пятнадцать метров.
— Должна же быть здесь хоть какая-нибудь трещина!
— Какая-нибудь нам не подойдет…
Лодка вздрогнула. Ее стало сносить влево.
— А это еще что за новости? Боцман, на рулях!
— По-видимому, сильное течение, товарищ командир.
Михайловский склонился над картой.
Все ясно как божий день. Мы же идем рядышком с подводным хребтом Ломоносова. Течения переваливают через гребень. Вот нас и несет. — Он помолчал. — Задачка! Всплывать-то ведь нам нужно будет быстро. Иначе лодку просто снесет под лед. Или ударит о край полыньи. Тогда…
— «Тогда» не должно быть.
По идее, не должно. А вот практически… Давай снова поищем. Всплыть на 30 метров.
Дрогнули и пошли влево стрелки на шкалах глубиномеров.
— Кажется, есть, Аркадий Петрович!
— Право руля!
Теперь могучая субмарина принимала потоки на нос. Корпус еле слышно вибрировал, как будто корабль про ходил через упругую стену, которая всеми силами стремилась отбросить его назад.
Кажется — пора.
— Всплываем!
— Поднять перископ…
Зеленое пятно в окуляре светлело от минуты к минуте, и вот Михайловский увидел день.
Слева, справа, сзади и спереди — необозримое море торосов. Окуляр вдруг стал туманиться, а потом по нему, как по заснеженному окну зимой, брызнули причудливыми узорами белые цветы, в какие-то считанные минуты приобретавшие законченную форму фантастических растений.
— А за бортом мороз, Аркадий Петрович, и кажется, изрядный.
Лодка никак не выравнивалась. Нос корабля застрял подо льдом. А за кормой оставалось всего каких-нибудь метр-полтора дымящейся от мороза воды.
По опыту Михайловский знал, что пространство это немедленно затянется и лодка, лишенная возможности всякого маневра, окажется пленницей льдов.
Нужно все начинать сначала.
— Погружение!
Цистерны мгновенно приняли забортную воду.
Метрах на пятидесяти Михайловский прекратил погружение, выровнял корабль и снова подвсплыл.
Эхоледомер равнодушно показывал недоступную толщину ледяных полей, и только минут через десять появилась надежда: лодка проскочила полынью.
Отработав задний, Михайловский завис над столь трудно найденным окном, еще раз сориентировался и скомандовал всплытие.
Когда был отдраен люк, он убедился, что «окно» достаточно широко и лодке ничто не угрожает.
Над торосами металась пурга. Корпус лодки мгновенно из черного стал серебряным, а потом белым. По стали градом секла поземка, и тучи снежной пыли и водяных брызг стояли над полыньей.
Казалось, пурга стихала: около корабля еще крутили буруны, а на севере небо уже прояснялось. Невидимый золотой луч играл на кромке далеких облаков, высекая ослепительные вспышки света.
Но вот они погасли, и новый шквал ветра сотряс лодку. По лезущим друг на друга небольшим льдинкам у кромки поля Михайловский видел, насколько стремительное и сильное здесь течение. Да и нос корабля уже снесло метров на пятнадцать.
— Право руля.
Лодка развернулась. Но и это не помогло: теперь потащило влево корму.
Михайловский лихорадочно искал глазами расщелину в ледяном поле. У него уже мелькнула мысль: закрепить, как на якорях, нос корабля в выемке, стабилизировать положение корабля. Но выемки не было. Словно срезанный огромным ножом край льда отливал зеленым разломом, кое-где припорошенным снегом.
Первое впечатление оказалось обманчивым: горизонт снова затянуло. Золотой луч сверкнул последний раз и погас, и, как это часто бывает в этих широтах, мощный снежный заряд ударил по торосам.
Пурга лютела с каждой минутой, льды угрожающе потрескивали, и уже стала неразличимой в снежном вихре зеленая кромка «окна». Все вокруг приобрело безлико-серый цвет.
Треск усилился. С грохотом откололась и пошла к кораблю глыба ледяного поля, таща перед собой сотни больших и малых осколков ледяного крошева.
Слева в вихре нарастал гул: видимо, началось торошение.
С этим не шутят. Нужно уходить, иначе можно погубить и лодку и людей.
В последний раз он взглянул на жестокую, но в чем-то могуче прекрасную схватку разгневанного неба с полярным океаном, улыбнулся помощнику:
— А все-таки и в таких условиях мы всплыли…
5— Слышим «шумилку», — доложили акустики. — Это станция «Северный полюс», товарищ командир.
— Ну что же, отлично… Боевая тревога! Приготовиться к всплытию.
Колокола громкого боя встряхнули и без того напрягшихся людей.
Михайловский хотел подать уже следующую команду, когда увидел вдруг совсем рядом побледневшее лицо невесть как возникшего в центральном посту доктора.
— Что такое? — Сердце Михайловского сжалось от дурного предчувствия. — Что случилось?
— Беда, товарищ командир! У Василькова приступ аппендицита.
— Операция необходима?
— Безусловно. Иначе я ни за что не поручусь.
— Погружение. Рулевым быть особо внимательными, точно держать глубину. — И повернулся к доктору: — Вам нужны помощники?
— Ванин, Сергеев, Поляков.
— Ванина, Сергеева, Полякова в кают-компанию! — Динамик на этот раз умолк уже надолго…
Около двух часов, ориентируясь по «шумилке», ходила субмарина на глубине в районе станции.
Когда Михайловскому доложили, что операция проведена успешно, он зашел в каюту доктора, куда уже был перенесен больной.
Васильков лежал на подушках. Осунувшийся, с глубоко запавшими глазами. Увидев командира, нахмурился.
— Виноват я, товарищ командир.
— Чудак вы, — Михайловский присел на край койки. — Ерунду вы говорите. Во-первых, при чем здесь вы? Такое может случиться с каждым. А во-вторых, ничего вы не сорвали. Так что все в порядке, дорогой… Поправляйтесь, не нервничайте…
Гриша Соколов, по его собственному признанию, был иногда «скептиком». Доподлинно неизвестно где, кто и когда заронил в его душу колючие семена вечного недовольства всем на свете, только разрослись они столь буйным чертополохом, что порой Гриша сам себе был в тягость от дремуче-бессвязных мыслей, осенявших время от времени его далеко не светлую голову, и от сознания своей избранной исключительности.
На свежего человека он мог произвести впечатление: изысканно-интеллигентная манера разговора с мягким грассированием, тонкое лицо, всегда бледные холодные руки. Витиеватый смысл его размышлений доходил до слушателя не сразу, и нужно было немалое время, чтобы понять, сколько в сих размышлениях просто желания покрасоваться.