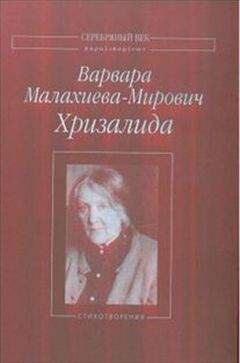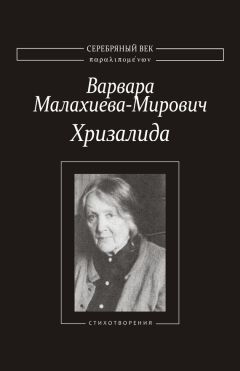Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954
Приснился сегодня Л. И. (Шестов). Вошел молодой, быстрый, радостный. В руках огромный букет цветов. Положил его передо мной с лучистой застенчивой своей улыбкой. Четырнадцать лет прошло с тех пор, как видела ее в последний раз. Десять лет со дня последнего письма. Не означает ли сон этот (цветы, помолодение, улыбка), что он перешагнул уже и, может быть, именно в эту ночь за ту черту, где нет уже старости, нет условностей и преград человеческого обихода, нет ни Парижа, ни Москвы. И нет разлуки.
Бесконечно трогает меня, греет, умиляет и поддерживает в трудные минуты доброта Нины Всеволодовны. “Я думала сегодня ночью, как вам устроить, чтобы не дуло из окон”. Ночью. Обо мне, о чужой старухе.
Спросила сейчас себя: – А ты, Мирович, думаешь ли вот так пристально, действенно, заботливо о ком-нибудь в ночи, когда тебе не спится? Нет этой привычки. Ухожу в какие-то беспредметные созерцания или в угрызения совести бесплодные, потому что чаще всего они касаются моей жестоковыйности к матери, которая уже пять лет как избавлена от всех испытаний горькой своей (и благостной) старости. Впрочем, думаю иногда поневоле “действенно” о посылке Дионисии, о голоде Каревых. Думаю иногда о подарках малоярославским малышам.
23 ноябряСлушали стихи Даниила – я, Вера, Женя (Ирис). У девушек, у обеих, были зачарованные лица, унесенные мощным потоком его лирики далеко от стен моей комнатушки. Индия, метампсихоз, видения Магомета, тысяча дней пути между глазами Серафима. Как вырос, как прекрасно расцвел двенадцатилепестный лотос его поэзии. И звук, и динамика внутреннего движения, и магия слов, и насыщенность горячей подпочвой (Индия! Индия!) – все делает стихи его особенными и в то же время дает ему право стать рядом с Блоком, с Волошиным, с Гумилевым.
10 декабря. Поздний вечер. Красные воротаГёте и Христина Вульпиус, прирожденная кухарка. Гейне и его Матильда, чуть ли не проститутка и притом попугайного типа женщина. И еще раньше Сократ и Ксантиппа. Менее потрясающие контрасты, но все же контрасты: Л. Толстой и Софья Андреевна, Достоевский и стенографистка Анна (забыла отчество)[255], Шестов и его Елеазаровна[256] (Т. Ф. Скрябина прозвала ее “Елеазавром” за примитивность психических очертаний, за допотопную угловатость и грубоватость проявлений). И должно быть, все это нужно там, где мужская личность не хочет повседневно тратиться духовно и душевно на подругу – Музу, на Прекрасную Даму, которую нельзя отправить на кухню, как Христину Вульпиус. Прекрасная Дама нуждается в поклонении. Подруга, более или менее равная по душевным запросам, стесняет внутренней требовательностью (Анна, первая жена Пантелеймона Романова). Н. С. Бутова сказала однажды: “Из нас, актеров, как и из поэтесс, редко выходят уютные жены. А любая безликая дама, если она не Ксантиппа – лежанка, пуховый платок, теплое одеяло. И это залог уюта”. “Не женитесь ни на психопатках, ни на еврейках, ни на синих чулках” (чеховский “Иванов”). Редко, как все прекрасное, есть и другие сочетания: у А. Толстого с Софией Миллер, у четы Соловьевых (Сергея Соловьева – см. у Андрея Белого в “Записках мечтателя”). У Рембрандта и Саскии. У Биш (Коваленские). И у твоей матери с твоим отцом, Сергеюшка.
12 тетрадь
1.1–9.2.1934
За ширмой Ириса.
В малом круге сознания – надвигающаяся депрессия Ириса. Героическая борьба ее с болезнью. Таинственное заболевание. Маша. Нарывы Сережи. Смерть Луначарского. Волна воспоминаний о его молодой страсти. Пылкие речи его о “крушении старого мира”, о революционном фронте пролетариата, о Гегеле, о марксизме. Голубые весенние и летние ночи Ниццы, аромат моря и апельсинных цветов. Однажды, когда собирался в Болье к Максиму Ковалевскому[257] и не было приличного костюма – гневная клятва: “Клянусь, что будет у меня автомобиль, и вилла, и европейское имя, получше, чем у этого толстяка”. Все это сбылось: был автомобиль, и вилла, и если не вилла – квартира со стильной мебелью, всемирно известное имя красноречивого трибуна большевизма. Была Розенель[258], Испания. Потом глаукома, вынутый глаз, агония – страшная тем, что не было у души слов: в руки Твои предаю дух мой. И вот уже сегодня он по материалистической концепции – прах. Толя Луначарский – блестящий красноречивый мальчик, охваченный страстью к 27-летней женщине на берегу Средиземного моря в те фантастические, прекрасные, лучезарно-голубые ночи.
Революционер. – Эмигрант. – Журналист. – Агитатор. Потом – ораторские лавры в СССР. Нарком. – Театр. – Цирк. – Женщины. Огромная, опасная для стареющего тела жажда жизни. Большевистские темпы… Где все это? Милый, бедный мальчик! Верится, что там, где ты уже не журналист и не посланник в Испанию и где уже не мучает ни горло, ни больной глаз, ни старческий склероз, – там тебе виднее, что это было и зачем все это было.
4 января. Красные воротаПоговорили, стоя на пороге, с милой Екатериной Васильевной Кудашевой о Марфе и Марии[259]. Я слегка и косвенно укорила ее в страстности, с какой она отдается пряникам перед Рождеством и куличам перед Пасхой. “Нет, нет, извините, это совсем не марфинство, тут больше мариинского, чем, например, у Майи, которая бежит от всякого черного труда и якобы сидит у ног учителя (Ромена Роллана), а сама – эгоистка, каких мало. И всех Марф кругом способна замучить своими причудами”.
Я согласилась, что “Марии нередко выезжают на Марфах” и что в чернорабочести Марфы иногда бывает больше “мариинского”, чем в иных Мариях.
5 января. Красные воротаГлубокая ночь. Трамваи перестали громыхать.
Что было? Длинная беседа с Людмилой Васильевной о Пушкине и Радищеве. “Пушкин почти завидовал Радищеву, порицая его в своей статье только из необходимости прибегать к эзоповскому языку”.
Алла. Горячесть встречи. Розовая, в новой квартире тоже все розовое. Екатерининская люстра с хрустальными подвесками, стильная мебель, сервизы, хрусталь. Детски радовалась подобию отдаленного серебряного колокольного звона от удара одной вазы о другую. Прелестно было ее лицо с широко открытыми, младенческой улыбкой сияющими глазами.
“Бывает розовое счастье”. Я когда-то предсказала ей такой этап.
Но это лишь этап. Да и под ним гул землетрясения, непрестанные подземные толчки. Может быть, оттого она так безжалостно к себе мечется в погоне за заработком, а не только из-за самого заработка. Работа – опиум и народов, и отдельных личностей, особенно работа нервная, безотложно спешная.
Даниил, Вера[260]. Какой трогательно девически-женственной становится она в его присутствии. Как сосредоточенно-внимателен он в ее сторону и как чувствует ее красоту. Но кажется, пройдут мимо друг друга. Кажется, не будут знать того, что называется “счастьем”. Но, может быть, это только кажется.
“Что есть вера”? Такой пилатовский вопрос задала я им обоим, когда они говорили о том, во что каждый из них верит, во что не верит. Они не ответили. А я думаю, что кроме веры порядка религиозного (в истинном значении этого слова) – это психический акт самозащиты и самовнушения. И в религиозной области бывает так же, когда душа не живет на достаточной глубине.
Насмешливо смотрят на меня кроткие глаза матери с портрета. Пять лет тому назад близко к этим дням она перешагнула туда, куда и мне пора.
– Пора, ты вот чем занимаешься, – говорят ее грустные, кроткие, умные и насмешливые глаза.
“Я помню о тебе, родная моя. И в ночном сознании моем ты неразрывно со мной. В дневном же приходится думать обо всем на свете”.
7-21 <января>. Вечер. КлиникаСестра Смерть отошла. Или, вернее, была отозвана. И тут некая тайна. Человек, который спасал меня от кровотечения (8-го и 9-го), д-р Работный, точно взял у меня мой жребий. (Такое еще до его смерти было чувство.) Умер в три дня от неизвестной болезни.
Сколько тайных соотношений в мире. И как незримо тонко, но реальнейшим образом связано все. Все – едино.
6 февраляПоглядела сейчас на свою руку и подумала: скоро она станет горсточкой пепла. И естественным это показалось. И ничуть не жалко.
А некогда – было мне тогда около 30 лет – я именно руки свои пожалела до слез. Был тяжелый душевный кризис, мысли о самоубийстве как о единственном выходе.
Я стояла на крыльце летней ночью (в Пенах Курской губернии)[261] полуодетая и думала о том, какие существуют способы покончить с жизнью: поезд, отрава, река. И вдруг обратила внимание на свои руки. Молодые, стройные, в лунном свете мраморно-белые, они показались мне необыкновенно прекрасными. И до того стало жалко предавать их тлению, что хлынули слезы и на время унесли план самоубийства.
Было жаль рук как отдельных, но от меня зависящих, трогательно красивых существ.