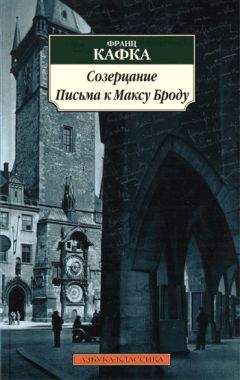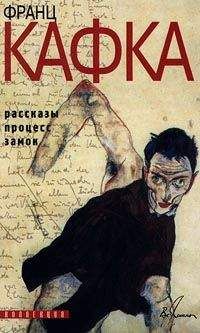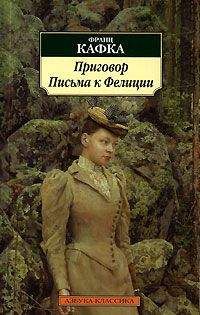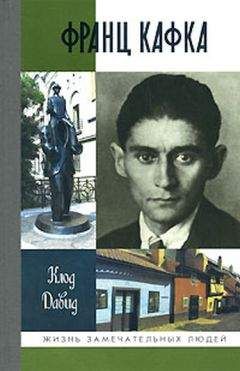Франц Кафка - Письма к Максу Броду
[Матлиари, начало февраля 1921]
Дорогой Макс,
я послал тебе на адрес Кошеля бесконечное письмо, но оно могло прийти лишь не раньше 1 февраля. Ты его, наверное, еще получишь, а если нет, то невелика потеря, там ведь нет конца и нет середины, одно только начало, только начало. Я мог бы сейчас начать его заново, но к чему это Берлину.
Письмо оттягивалось из-за разных помех, которые в нем перечислены, но самая последняя не упомянута, ее я заподозрил, лишь когда письмо было уже отправлено. Дело в том, что я простыл, а может, и не простыл, я не знаю, каким образом мог простудиться, просто плохая погода, буря, длившаяся непрерывно уже почти две недели, попросту и без особых церемоний уложила меня в постель. Я пролежал четыре дня, сегодня еще тоже в постели, лишь сейчас, вечером, ненадолго встал. Ничего особенно скверного не было, просто из осторожности надо было перележать, я только кашлял и харкал, температура была не такая уж высокая, врач, внимательно послушав сегодня мои легкие, сказал, что там ничего нового, они даже лучше, чем несколько дней назад; тем не менее я от всего этого устал, и, если к концу пятой недели я прибавил в весе уже 4.20, завтра в лучшем случае будет то же самое. Но несмотря на достаточно сильную усталость и все помехи, я пока не хочу жаловаться, все, что было со мной за последние шесть недель, вместе взятое и сконцентрированное, не сравнится по разрушительной силе с тремя сутками в Меране, впрочем, тогда у меня, наверное, и сил было больше.
Среда.
Вчера мне помешали, но дружески, тут есть студент-медик 21 года[95], будапештский еврей, очень честолюбивый, умный, в том числе и как литератор, кстати, внешне похож на Верфеля, хотя черты его погрубее, общительный, какими бывают прирожденные врачи, антисионистски настроенный, его вожди — Иисус и Достоевский; он явился ко мне еще после девяти из главной виллы, чтобы наложить компресс (вряд ли нужный), его особая расположенность ко мне, очевидно, объясняется воздействием твоего имени, которое он очень хорошо знает. Конечно, его и кашауца очень заинтересовала возможность твоего приезда.
Что касается этой возможности, то я писал тебе в Прагу, что был бы весьма рад твоему приезду, но лишь в том случае, если ты собираешься ехать в Словакию или если ты приедешь, чтобы отдохнуть, то есть на более долгий срок. Если же ты хочешь приехать специально, из Праги, или из Брюнна, или (судя по твоим намекам, ты можешь это связать с берлинской поездкой), скажем, из Одерберга или другого отдаленного места, — пожалуйста, не надо ездить, это возложило бы на меня слишком большую ответственность!
Счастья тебе и радости в Берлине! Если я написал что-то злое о письме Демеля, то ты тут совершенно ни при чем. Любить женщину и быть недоступным страху или по меньшей мере совладать с этим страхом и вопреки ему взять женщину в жены — для меня это столь невозможное счастье, что я его — из классовой вражды — ненавижу. К тому же я знаю только письма из декабрьского номера.
И что такое вообще полупустые страхи перед полнотой жизни; они в твоей книге, они в том, как отобраны в ней времена и женщины, а сильней всего, кстати, в первых стихотворениях; так сильно, как в «Поцелуе», ты еще не высказывался; я, впрочем, лишь начинаю читать эту книгу, с ясной головой, в первый за недели хороший день и в первый день, когда я начал вставать.
Если ты приедешь, не захватишь ли одну из каббалистических книг, наверное, это на еврейском?
Твой Ф.
[Матлиари, начало марта 1921]
Дражайший Макс,
видимо, писем больше не будет, я ведь приеду через две недели и тогда, наверное, смогу ответить на вопросы твоего письма устно.
Получив твое письмо, которое во многом меня задело, я мысленно ответил настоящей вспышкой, но на бумагу это не излилось, у меня лежало несколько писем, нуждающихся в ответе (я не ответил на них до сих пор), будапештец, о котором я в прошлый раз писал, долгое время требовал почти постоянного общения, но прежде всего навалилась усталость, я часами лежу в шезлонге в состоянии полудремы, в каком ребенком видел дедушку с бабушкой. Чувствую я себя неважно, хотя врач утверждает, что легкие у меня наполовину залечены, но, по-моему, дела у меня вдвое хуже, я никогда еще так не кашлял, никогда так не задыхался, никогда не чувствовал такой слабости. Не спорю, в Праге было гораздо хуже; но если иметь в виду, что внешние обстоятельства, если не считать разных помех, на сей раз были довольно благоприятны, то я вообще не представляю, каким образом что-то может еще улучшиться.
Но глупо и заносчиво так говорить и принимать это так всерьез. В разгар небольшого приступа кашля его поневоле считаешь крайне важным; но, когда он отпустит, к нему можно относиться иначе. Когда темнеет, ты еще зажжешь свечу, но, когда она догорит, ты будешь тихо сидеть в темноте. Именно потому, что в доме отца нашего горниц много, не следует поднимать шума.
Я уже рад, что уезжаю отсюда, наверное, это надо было сделать еще месяц назад, но я так тяжел на подъем и так много людей здесь относятся ко мне с непонятной расположенностью, что, если бы мне продлили отпуск еще, я бы остался здесь дольше, тем более погода сейчас наконец улучшается. В лесу есть павильон, где можно иногда лежать, раздевшись до пояса, а на моем балконе можно и совсем раздеться.
Прочитав это, ты можешь решить, что я не отношусь к лечению всерьез. Напротив, я отношусь к нему ужасно серьезно, я даже ем мясо — с еще большим отвращением, чем все прочее; ошибкой было, что я до сих пор не жил среди легочных больных и, в сущности, не заглядывал в глаза болезни, я сделал это лишь здесь. Но последний шанс немного выздороветь был, наверное, в Меране… Ну и хватит, наконец, об этом, я это пишу, чтобы не пришлось больше говорить на эту тему в Праге.
Ты пишешь о Саломо Мольхо[96], как будто я когда-нибудь о нем слышал. А я ведь много пропустил за эту четверть года.
До свидания!
Франц
Виккерсдорфская анкета хорошо подходит к теме. Письмо Эссига я уже раньше случайно прочитал в газете и хотел послать тебе как пример особо отвратительный: «Глазки, что так мило щекочут сердце». Конечно, тут нет ничего, в сущности, отвратительного, кроме того, что письмо теперь напечатано, а отправителя уже съели черви.
[Матлиари, начало марта 1921]
Дражайший Макс,
надеюсь, ты получишь это письмо одновременно с моим вчерашним. Вчерашнего не считай, я просто не написал тебе, в каких обстоятельствах оно писалось. Я лежал на своем канапе, совершенно без сил после еды, из-за мучительного отсутствия аппетита у меня выступал пот на лице, когда я с ужасом видел перед собой полную тарелку, при этом я последние две недели ем много мяса, но, поскольку повариху, к которой я привык, заменил не столь умелый повар, от этого мяса обострился геморрой, днем и ночью меня мучили сильные боли — и в таком состоянии я писал тебе письмо. Но оно было неправильным. Потому что хоть кашляю я сильней и больше задыхаюсь, но можно противопоставить и положительное: заключение врача, прибавку в весе, впрочем сейчас приостановившуюся, и хорошую температуру. Теперь мы скоро увидимся. Писать о таких вещах! И кто водит нашей рукой?
Твой Ф.
[Матлиари, середина марта 1921]
Дорогой Макс,
я попрошу тебя об одной большой услуге, к тому же это надо сделать сразу. Я хочу остаться здесь еще, не именно здесь, а в Татрах, вероятно, в санатории д-ра Гура в Полянке, который мне хвалят, он, впрочем, и намного дороже, чем Матлиари.
Остаться я хочу по следующим причинам:
1. Прежде всего доктор грозит мне возможностью полной катастрофы, если я сейчас поеду в Прагу, и сулит мне, если я останусь до осени, относительное выздоровление, так что мне потом достаточно будет проводить шесть недель в году у моря или в горах, чтобы держаться. И то и другое пророчество, второе особенно, преувеличены, тем не менее он каждое утро мучает меня таким образом, отечески, дружески, всячески. И хотя я знаю, что пыл его предсказаний во всех отношениях поубавился бы, знай он, что я собираюсь переселяться в Полянку, все-таки это производит на меня впечатление.
2. Домашние все просят меня остаться, сами не представляя, как много у них для этого оснований. С тех пор как я здесь живу среди легочных больных, я твердо знаю, что хотя для здоровых людей нет возможности заразиться, здоровы здесь разве что, например, лесорубы в лесу или прислуга на здешней кухне (которые прямо руками доедают остатки еды с тарелок тех самых больных, напротив которых я даже сажусь с опаской), но никто из нашего городского круга. Как ужасно сидеть, например, против человека с больной гортанью (кровный брат легочного больного, печальный брат), он дружелюбно и безобидно сидит перед тобой, смотрит на тебя ясными глазами легочного больного и при этом брызжет тебе в лицо сквозь растопыренные пальцы гноем своих туберкулезных язв. Ничего особенно страшного, но так же и я буду сидеть дома, «добрым дядюшкой» среди детей.