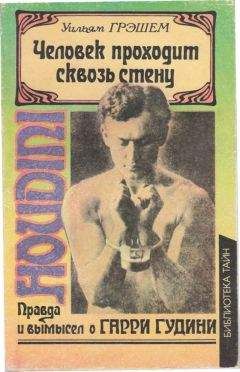Василий Немирович-Данченко - На кладбищах
У нее воображение развивалось особенно потому, что дома, в строгой семье, она вела слишком замкнутую жизнь. «Мне не дают воли! — говорила она. — Ну и развернусь же я потом. Каждою порою жить буду вовсю. Я за все эти годы возьму свое… У меня в сутках сорок восемь часов окажется…» При других она запиралась на все замки. Из угла большой и мягкой софы — она пытливо следила за всеми, чутко слушала, не высказываясь. Я помню, как Владимир Соловьев, очень ценивший ее первые стихи, приставал к ней у меня.
— Вы всегда, Мирра Александровна, так отмалчиваетесь?
— Нет, с Василием Ивановичем, например…
— А почему же с ним только?
— Он свой… Он отучил меня стесняться… Он умеет чувствовать тоже.
— Как это?
— Он всегда угадывает, чего я хочу. С ним нет диссонансов.
И потом она мне о нашем, так рано умершем, философе:
— Знаете, в нем и ангел, нет не то: и пророк, и демон.
— Вот тебе и на!
— В самом деле. Верхняя половина лица — апостол, аскет, прямо его в Фиваиду. А нижняя — особенно рот — сатана… Сложный. Никак его сразу не сообразишь…
Вл. Соловьев жил тогда тоже в гостинице «Англия» и, как он говорил, «для пауз» заходил ко мне. В своем тусклом и маленьком номере он много работал, радуясь тому, что об этом его убежище мало кто знал. Он очень любил — вероятно, по симпатии противоположных характеров и натур — встречаться у меня с Терпигоревым (Сергеем Атавою), который очень не понравился Мирре Александровне.
— Вот уж «земля»! Ничего одухотворенного. Может быть, большой талант. Я вам верю, только с пятипудовой гирей на крыльях… И сам не улетит, и другого не унесет в высоту…
Я должен был уехать на восток.
Меня вызывали в Шираз, в Персию…
В последнюю нашу встречу она просила меня:
— Возьмите меня с собой.
— Вы это не серьезно, надеюсь.
— Я переоденусь мальчиком…
— Ничего не имею против. Расскажите своим, и если они одобрят этот план — буду счастлив и рад.
— Вы все смеетесь! А между тем…
Она задумалась, пристально вглядываясь в меня.
— Мне что-то говорит, что мы опять встретимся — совсем, совсем чужими. Может быть, вы пожалеете, что оставили меня здесь… уехали…
Она отвернулась к окну и заплакала.
— Точно я что-то хороню дорогое, близкое… Такое близкое… какого у меня, верно, долго не будет… А впрочем… Вольному воля… Не хотите и не надо!
Она смахнула слезы и засмеялась.
— Фу, какая я стала сентиментальная. Вам не смешно?
— Нет…
Я вернулся только через два года.
Из Персии я попал в Малую Азию. Меня старомусульманским укладом жизни захватили Алепо, Моссул, Багдад и Дамаск. В те счастливые времена в пеструю сказку востока еще не вторгались немецкие культуртрегеры и все ее пульсы бились полною, настоящею своею жизнью. Бледный призрак Мирры все реже и реже появлялся в моих воспоминаниях. Я все дальше отходил от этого счастливого сна, так согревшего мою тогдашнюю петербургскую зиму. Правду говоря, мне не хотелось возвращаться к этой наивной идиллии девочки, которой я годился в отцы по меньшей мере. Наши — то шаловливые, то поэтические — встречи были так нежны и чисты, что им радовались бы ангелы, если бы им вздумалось подслушивать нас и подсматривать за нами. До сих пор все эти пережитые дни чудятся в каком-то голубом свете, на который ни одна страстная мысль не бросила своего багрового отблеска. Это — осталось за мною как радостное, прохладное утро. Солнце еще не подымалось на безоблачных небесах и его жаркие лучи не обдавали наши помыслы зноем желаний, которых потом пришлось бы краснеть. Вернувшись в тот же отель на Исаакиевской площади, — я рисовал ее себе в уголке той же оливковой софы, свернувшейся, как молодой котенок, перед камином, но и этот призрак тускнел. Она уже начала печататься. Как-то я встретил Марью Всеволодовну Крестовскую.
— На днях — мы говорили о вас.
— С кем это?
— Молодая поэтесса, Мирра Лохвицкая.
— Да?
— Очень талантливая. Вы дали ей много веры в себя. Она о вас вспоминает так тепло…
Мы встретились потом… В очень шумном и глупом литературном кружке, где какой-то лохмач, вообразивший себя Аполлоном, читал бездарные стихи. Ему из вежливости аплодировали. Он вдруг обратился к Мирре:
Я бог поэзии, я чудо из чудес…
Когда бы я нуждался в смертной музе,
Тебя бы я увлек в прохладный темный лес…
Я не помню, что было дальше. Мирра фыркнула, другие засмеялись, поэт обиделся и скис.
Только перед самым разъездом Мирра подошла ко мне.
— Вы меня довезете домой?
Я поклонился.
— Кажется, вечность мы не виделись. Какая была я тогда смешная.
— Не нахожу.
— Из вежливости?
— Нет. В моем прошлом это уголок, освещенный солнцем.
— Да, правда… Вы не улыбаетесь глупой девчонке, царапавшей вам руки?
— Улыбаюсь, как милому и радостному призраку.
— Вы не знаете, как мне досталось за вас.
— За меня.
— Да… Даже рассказать не могу.
— От кого?
— От мамы!
Помолчала с минуту.
— Я, может быть, скоро выйду замуж.
— Вы любите?
— Нет… А, впрочем, не знаю. Он хороший… Да, разумеется, люблю. Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти в жизнь.
Мы виделись еще несколько раз. Но она уже была «вся чужая».
Те невидимые нити, которые связывали нас, — все человечество опутано ими — оборвались и отмерли. Говоря друг с другом, мы уже не испытывали сладкого трепета в душе. Нас не тянуло — остаться у камина вдвоем и, глядя в огонь, точно читать в нем непередаваемые заревые строки… Только встречая в журналах того времени ее новые стихи, я в их нежной ласке и горячих призывах, в звучном мастерском ритме, в этом свободном языке страстной неудержимой фантазии, узнавал Мирру, Мирру моих воспоминаний… Прелестную девочку, носившую стоившее ее имя!
Стихов ее искали.
Их охотно печатали.
И самые нелепые козлы редакторского мира разнеживались, получая от нее ее коротенькие сафические гимны. У нее не было врагов, хоть она для этого обладала достаточным талантом. Ее успеху не завидовали — эта маленькая фея завоевала всех ароматом своих песен… Они, точно рассыпанные розы, останавливали всякие ослиные копыта, не решавшиеся топтать их раннего расцвета. Не смейтесь над этим сравнением. Я хорошо помню на Капри, по пути на Salto del Tiberio [48] — разбросанный букет на каменистой узенькой тропинке и почтенное ушастое животное старалось не наступить на алые, умиравшие на припеке, цветы…
Все обещало ей чудный расцвет.
Повторяю — у нее был большой настоящей талант, сейчас же признанный всеми. Ей не пришлось, как нам всем, проходить сквозь строй критического непонимания, бесшабашных «ату его!» дуболобых горланов и кретинов, привыкших оценивать новые литературные явления от старой печки, не иначе. «Нашего брата надо — топором в нос, — признавался один из таких, — чтобы искры из глаз посыпались». Лохвицкая не попала в это чистилище, из которого мы все переходили — все-таки не в рай, а в… ад. После Фета я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоевывал, как она, «свою публику». Она была не самолюбивой и жадной искательницей странного и неясного, вместо оригинального, она не выдумывала, не кудесничала, прикрывая непонятным и диким отсутствие красоты и искренности. Это была сама непосредственность, свет, сиявший из тайников души и не нуждавшийся ни в каких призмах и экранах, чтобы чаровать тех остолопов, которые ищут в поэзии того, чего они никак уяснить себе не могут. Поэтесса «милостью Божьей», а не свободным плебисцитом газетных апашей — она задумывала много, но…
Она жила не долго!
— Мне так хочется на греческие острова: Мителене (Лесбос), Хиос, Родос.
— Почему именно туда?
— Хочу попробовать себя на крупной поэме. Чего вы морщитесь?
— У меня был в юности друг — великий комик Пров Садовский.
— Ну!
— Так он — страшно завидовал большому, но не великому Шуйскому… Я помню, как он говорил: не умру, не сыгравши трагическую роль!
Она засмеялась.
— Нет, мне хочется написать в моем роде. Сафо. Мне кажется, что я ее понимаю несколько иначе, чем до сих пор представляют себе записные толкователи древних поэтов. Вы были там?
— Еще бы, объехал почти все эти острова.
— Так бы и побила вас.
— За что?
— Отчего меня не взяли с собой?
— Хорошая картина, нечего сказать! Вы бы сами потом не простили мне.
— А вы нуждаетесь в прощении? Сколько романов написал, а того не знает, что женщина не прощает только одного: когда ей отвечают «нет!».
— Женщина, но не девочка. Это ремесло провинциальных гастролеров — увозить с собой по окончании сезона полоротых подростков-гимназисток…
— Да, разумеется, вы правы…