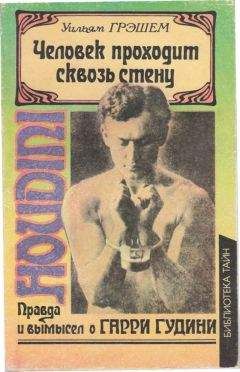Василий Немирович-Данченко - На кладбищах

Обзор книги Василий Немирович-Данченко - На кладбищах
Василий Иванович Немирович-Данченко
На кладбищах
От автора
«Воспоминания» писались в первые дни революции. На них поэтому отражаются впечатления так скоро минувших событий, великих облетевших надежд и ярких миражей, сменившихся суровою, беспощадною действительностью. Непонятною одним, страшною другим. Стихийное творчество, как и мировое разрушение не справляются ни с катехизисом, ни со сводом законов, как бы мудры они накануне ни казались всем, кто приговорен торжествующей новью к смерти и уничтожению. Ведь в Истории чаще, чем думают, логика сменяется неизбежностью. Бродя по полузабытым кладбищам, невольно воскрешаешь мертвецов, независимо от того, какие они играли роли — большие или малые. Ведешь с ними нескончаемые беседы, повторяешь прошлые. Впоследствии они понадобятся бытописателю, который пожелает, как библейская Руфь, со скошенных пажитей собрать и эти оставшиеся колосья. Медовый месяц революции прошел. Начни я эту книгу теперь, многое в ней написалось бы иначе. Но мне именно дороги тогдашние настроения. Хотелось сохранить в наши рабочие будни радужные отсветы погасших праздничных огней. Притом же мои «Воспоминания» печатались далеко от меня, и по старой рукописи нельзя было пройти корректирующему сегодня. Пусть же в них отражается то время, со всеми его плюсами и минусами. Это тоже нужно и имеет право на существование.
Неодолимые условия нашей яви помешали сделать некоторые исправления и даже восстановить опущенные места. Записки о Чехове читались неоднократно публично, и из них выпали две-три страницы. Таким образом, на стр. 47, между строками 18–19, оказался досадный пропуск. Разумеется, не по вине типографии, а по моей: несколько анекдотический рассказ насмешливого Вас. Пант. Долматова о странствии его с А. П. Чеховым и Влад. Тихоновым по ранним обедням ведется как бы от моего лица. Далматовское «я» — оказалось моим.
Беглые воспоминания о Д. А. Милютине — только дополнение к тому, что о нем было мною напечатано ранее [1]. По цензурным условиям эта глава, разумеется, в свое время появиться не могла. О гр. Лорис-Меликове я тоже дал немногое, потому что мои записки о нем находятся в прекрасном далеке. Писать приходится в Петрограде, а дневники, которые я вел когда-то, и памятные книжки остались в Италии…
Все, помещенное в эту книгу, — является в первый раз.
О Чехове
Не раз хотелось писать об Антоне Павловиче Чехове, но мне было так трудно передать о нем мои воспоминания. Почему-то он мне представляется весь в нежных полутонах, неуловимых, как некоторые Мурильевские картины, где в сгущенных сумерках надо угадывать неясные фигуры.
На юге есть такие туманы: палевые, и в них теряется определенность и четкость очертаний. Образы писателя были определенны и выпуклы, но он сам, удивительно зоркий наблюдатель струившейся мимо жизни, оставался в стороне красивою и милою загадкою для тех, кто, как я, встречался с ним то часто за границей, то с большими промежутками в России.
Я никогда не был с ним очень близок, если исключить три месяца, проведенных вместе в маленьком русском пансионе в Ницце.
Сейчас я роюсь в прошлом и, точно во влажный вешний день, любуюсь зыбкими, едва намеченными сквозною молодою листвою тенями. Может быть, он и не был таким, и, по всей вероятности, друзьям, лучше его знавшим, он является в более точных рисунках и ярких красках, но это все равно. Я говорю о моих личных впечатлениях, и только.
Думаю, что негативы, взятые слишком близко, лицом к лицу, часто уступают таким же издали. В последних более цельности, особенно, когда дело идет о крупных величинах с их соотношениями ко всему окружающему.
— Меньше всего знает мужа его жена именно потому, что видит его каждый день. Она хорошо помнит, где у него обрывались пуговицы, пришитые ею, но самого человека заслоняют такие мелочи, сквозь которые, как в ином лесу сквозь кустарник, не пробраться. Он, может быть, велик, а она никак не забудет, как он храпел и не давал ей спать или ссорился с нею из-за не вовремя поданного счета кухарки.
Это — слова самого Антона Павловича, врезавшиеся в мою память. Мы с ним тогда смялись над тем, как одна итальянка определяла своего, ну мужа, что ли, — одного из крупнейших и талантливейших русских ученых и профессоров.
— Не понимаю, почему его все так уважают, а он терпеть не может, когда мясо жарят на самом лучшем оливковом масле. И когда он спит — кажется, что рядом кто-то полощет себе горло.
Только она и могла вынести из долголетней близости с ним.
Сверх того, о таких любимцах своего интимного кружка, как Чехов, трудно писать потому, что многие «друзья», зачислившие себя в этот, если хотите, завидный чин уже после смерти писателя, — очень ревниво оберегают свое захватное право: свидетельствовать ложно о покойнике. Каждого, кто это делает, хотя и правдиво, они готовы взять за шиворот и сдать любому казенному городовому: «Караул, меня обокрали!»
Кому случалось одиноко проводить вечера за письменным столом, тот знает, как из потемочных углов на него смотрело его прошлое, далекое-далекое, едва различимое.
Оторвешься в раздумье от работы, откинешься, и за маленьким световым кругом от абажура лампы оно, это прошлое, мерещится отовсюду.
Так именно намечается передо мною первое мое свидание с бледным и веселым юношей у другого — и тогда малоизвестного, а теперь и вовсе забытого — романиста, поэта и фотографа (за что только он ни брался!) Хрущова-Сокольникова. Случилось это в Москве. И Чехов еще не был Чеховым, а в печати впервые появился «Антоша Чехонте».
Я вернулся из первой поездки в Италию и, должно быть, уже слишком был в восторженном угаре только что пережитых впечатлений. Рассказывал о них и вдруг из угла послышалось:
— Эх, грошей не ма! А то бы и я… Нет, впрочем, не хочу туда!
— Почему?
— Слушайте же… Лакированная она у вас какая-то… Италия! Точно новый паркет, только что полотеры ушли — он весь и горит… И потом скользко…
— Это в старых галереях, в развалинах?
— И все-таки, хоть и обвалилась и потрескалась, а лакированная. Вот вы, например, о дожде в Вероне, так ведь дождь-то ее еще больше обмыл, и мокрая она так блестит на солнце. Потом вся она каменная. Домам на земле тесно, сбились в кучу и на небо лезут. Вон, по-вашему, в Генуе дылды в девять этажей.
— И по двенадцати есть в порту.
— Ну вот, это уж не жизнь, а воздухоплавание… С Ивана Великого только и приятно, что плюнуть на голову*** (он назвал одного тогдашнего издателя), когда он аванса не даст. Да и Вероны никакой нет. Ее Шекспир выдумал, а вы ее видели на декорациях «Ромео и Джульетты». Нет, я, слушайте, простор люблю и деревенский домик, и петуха на заборе, и гусей в пруду, и ракиты… И длинные сумерки на крылечке. А из кухни чтобы жареным поросенком пахло.
Его все-таки через много лет вытащил А. С. Суворин, и именно в Венецию. Потом уже старик рассказывал мне.
— Вот уж… Антон Павлович там ни на что не смотрел. Больше с Алешей (сын его) в винт играл. В Венеции мне хотелось, чтобы он памятник Кановы осмотрел. Знаете: на piazza degli Frari [2]. Взял с него слово. Утром спрашиваю: — Видели? — Видел! — Ну что ж? — Хоть сейчас на Волково кладбище! — Я даже плюнул. А потом добился: он там и не был. Купил себе открытку с этим памятником и на том успокоился. Упрекаю его — а он: «А зачем мне? Я ведь не собираюсь открывать мастерскую надгробных монументов для рогожских купцов». Идем мы с ним мимо великолепной конной статуи кондотьери Коллеоне. Я останавливаюсь, а он: «Да ну, Алексей Сергеевич, пойдем. Есть на что: мало вы в Берлине конных городовых видели!» Или винтит или сидит у Квадри и ест granita d'arancio [3]. «Голуби-то, — радуется, — совсем, как у нас на Собачьей площадке».
Было ли это безразличием, отсутствием любознательности? Нет, разумеется. Но он до болезненности страстно любил Россию. Зарубежные дива его занимали не много. Он проходил мимо, спокойный. У нас есть все, говорил он, и яркое, и тусклое. Почему-то нас называют серенькими в серенькой природе, — а мы раскинулись вон как, и у нас найдутся и краски, и такие эффекты, до которых, пожалуй, и вашей Италии далеко. Ее, эту Италию, еще здорово смыть надо, чтобы она уж не очень блестела.
Разгадка такого отношения к странам, куда нас тянет так сильно, была в том, что как тонкий психолог Чехов интересовался больше человеком, чем сценой, на которой тот действует. И человеком у себя дома. Чужого — еще пойми, да и к чему? У него свои изобразители, а родное постоянно на глазах и мучит, и волнует, и требует воплощения в звуки и образы. Ему наши тусклые будни поэтому были понятнее и дороже и ближе солнечных раев…
Все это уж было позже, когда Суворин влюбился в молодой талант и старался расчистить ему дорогу от неизбежных волчцов и терний. Сам Антон Павлович в этот медовый месяц так поздно выпавшего на его долю головокружительного успеха только отошел от себя в сторону, смотрел на восторги еще вчера неведавшего о нем читателя извне и даже недоумевал: