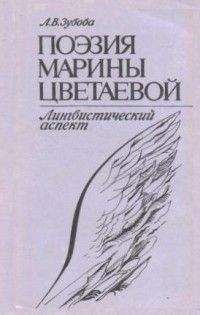Людмила Поликовская - Тайна гибели Марины Цветаевой
Статья «Советская кинопромышленность» также начинается с утверждения документального кино. «Кинематограф давно перерос свое первоначальное назначение легкого зрелища и внедрился во все области жизни<…> в настоящее время кино в Рос-сии<…> является мощным средством по осуществлению поставленных перед Советами целей». Как что-то безусловно положительное Эфрон оценивает то, что в СССР перед каждой лентой ставятся идеологические задачи, что советские сценаристы получают конкретные задания: пропаганда пятилетки, борьба с «кулаками», с алкоголизмом, с религией (sic!) и пр. При этом большая часть статьи посвящена проблемам чисто техническим, не представляющим никакого интереса для массового читателя. Напечатать такую статью можно было только «по блату» — у друга М. Слонима. Стоит ли удивляться, что и как кинокритик Эфрон не состоялся.
Но Цветаева не только не пытается отговорить мужа от очередной химеры, но свято верит в его таланты и успехи, «…через 6–8 месяцев С<ергей> Я<ковлевич> наверное будет зарабатывать», — сообщает она Ломоносовой, много помогавшей Цветаевой материально. И ей же: «По окончании<„> школы<„.> ему открыты все пути<.„> он сейчас за рубежом лучший знаток советского кинематографа <…> у С<ергея> Я<ковлевича> на руках весь материал, он месяцами ничего другого не читает<.„> Главное же русло, по которому я его направляю, — конечно, писательское. Он может стать одним из лучших теоретиков<…> Будь он в России — непременно был бы писателем». Несколько странно читать про вполне взрослого человека, прошедшего огонь и воду, что жена его «направляет». Но Цветаева пока еще может «направлять» мужа, к которому относится, как к больному ребенку. (Скоро это кончится.) Что ж, если бы не революция, быть может, Эфрон действительно сделался бы средней руки писателем или публицистом. Способности были, и Марина Ивановна помогла бы. Но эпоха уготовила ему судьбу иную.
Сергей Яковлевич действительно рвался в Россию. Но не для того, чтобы стать писателем. (Впрочем, он довольно смутно представлял себе, чем же будет там заниматься.) В каждом письме сестре в Москву: «Откровенно тебе завидую — твоей жизни в русской деревне», «Конечно, мы увидимся. Я не собираюсь кончать свою жизнь в Париже…», «Я думаю, что скоро приеду в Москву. Здесь невмоготу».
«Здесь невмоготу» — понятно. А вот — «…скоро приеду в Москву»? Это написано 28 марта 1931 года. Возможно, в это время Сергей Яковлевич уже принял решение: во всяком случае, в июне того же года он передал через советское полпредство в Париже прошение во ВЦИК о советском паспорте. Вскоре, очевидно для того, чтобы «заслужить прощение», он становится тайным сотрудником ГПУ. Его последняя неудача — несостоявшаяся деятельность в кино и полная невозможность найти какой-нибудь заработок — быть может, оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения эмигранта. (Справедливости ради скажем, что в данном случае «виноват» был не только Эфрон, но и разразившийся кризис, повлекший за собой тотальную безработицу.) Морально он уже был готов к этому шагу: от его белогвардейских идеалов к этому времени не осталось ничего. В том же марте 1931 года, высылая сестре свои воспоминания (вероятно, «Октябрь», 1917 г.), он пишет, что делает это «с тяжелым сердцем», ибо «терпеть их не может».
Цветаева же возвращаться в СССР категорически не хочет. После всех неудач — муж потерял работу, ее не печатают — она пишет С. Андрониковой-Гальперн: «Не в Россию же мне ехать?! Где меня раз (на радостях!) и — два! — упекут. Я там не уцелею, ибо негодование — моя страсть (а есть на что!)».
Но пока это не актуально. Разрешения на въезд в СССР нет и пока не предвидится. Актуально другое — как жить, когда жить не на что. Правда, Сергей Яковлевич все-таки устроился на работу — «фабрикует картон для домов». Работа тяжелая, а заработок грошовый, да к тому же непостоянный. Письма Цветаевой 1930–1933 годов — это буквально SOS: «Дела наши гиблые, гиблейшие», «В доме голод и холод», «Нынче на последние деньги марку и хлеб. Фунт. Уже съели». Постоянный страх оказаться на улице («под мостом»). И постоянные просьбы о помощи. Не только денег, но и старых вещей — чтобы не на помойку, а ей или Але. Семья переезжает на более дешевую квартиру — теперь у Марины Ивановны нет своей комнаты (она спит в кухне), но и это не помогает. Кризис, тотальная безработица. Даже среди французов. Закрылась «Воля России», практически никогда не отказывавшая Цветаевой в публикациях.
И тут — еще один удар. Пострашнее всех материальных невзгод. Ее «заоблачный брат», ее Пастернак влюбился, оставил семью и собирается жениться. Она узнает об этом случайно — от приехавшего в Париж приятеля Пастернака писателя Бориса Пильняка. То, что Пастернак сам не написал ей об этом, ей, которую он всегда называл лучшим другом, понимающим его как никто другой, усугубляет боль. С самого начала их переписки она знала, что у Пастернака жена и сын, и принимала это как данность — никакой ревности. То были как бы разные измерения — там быт, здесь — чувства совсем иного, более высокого порядка. Летом 1926 года, когда Пастернак собирался оставить семью и ехать к Цветаевой, — она остановила («Дай мне руку — на весь тот свет! / Здесь — мои обе заняты). А теперь… Пастернак не муж и отец, выполняющий свой долг перед семьей, — это она чтила — Пастернак влюбленный, то есть душой прикипевший к другой женщине, — не к ней — это уже не ее Пастернак — «просто лучший русский поэт».
«Знаю, что будь я в Москве — или будь он за границей — что встреться он хоть раз — никакой 3<инаиды> Н<иколаевны> бы не было и быть не могло бы, по громадному закону родства по всему фронту: СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ. Но — я здесь, а он там, и все письма, и вместо рук — рукописи. Вот оно то «Царствие Небесное», в котором я прожила жизнь», — писала Цветаева Р. Ломоносовой. И была наивно неправа. Несмотря на весь свой опыт, она полагала, что мужчины, во всяком случае лучшие из них, способны предпочесть духовную близость сексуальному наваждению. (О, конечно, они-то сами полагают, что любят душу своей избранницы — иногда это так и есть, но только вторично и очень часто надуманно.) Впрочем, исключения, конечно, существуют. Таким исключением был Сергей Эфрон. Пастернак — нет.
Автору этих строк довелось знать Зинаиду Николаевну. Это была самая обыкновенная, абсолютно земная женщина, даже не без некоторого налета пошлости. Зарабатывает ли ее муж стихами или переводами — ей было решительно все равно. Мемуаристы, знавшие ее в молодости, в один голос говорят об ослепительной внешности. С этим не смеем спорить, ибо знали ее уже пожилой женщиной, когда от былой красоты не осталось и следов. Лицо было некрасивым и абсолютно бездуховным. Не случайно любовь, которая, как предполагалось, продлится до гроба, кончилась, когда красота Зинаиды Николаевны поблекла. Пастернак влюбился в другую красавицу — Ольгу Ивинскую. Но эта тема уведет нас слишком далеко от героев нашей книги, поэтому поставим здесь точку.
Разрыв с Родзевичем стал кульминацией любовных драм Цветаевой («С Р<одзевича> никого не любила»). И — нет худа без добра — это дало ей возможность пережить новую драму. «Живу<…> Еще пять лет назад у меня бы душа разорвалась, но пять лет — это столько дней, и каждый из них учил — все тому же, доказывал — все то же. Так и получилось Царствие Небесное — между сковородкой и тетрадкой».
Действительно, после рождения сына день Цветаевой проходит в основном между сковородкой (домашним хозяйством) и тетрадкой (творчеством). Мура она обожает и потому эмоционального голода не испытывает. Она не забыла, какую страшную цену ей пришлось заплатить за то, что «в октябрьские смертные дни» она была прежде всего поэтом и только потом матерью. Теперь все подчинено сыну: он должен если и не хорошо (это не всегда получается), то, во всяком случае, регулярно питаться, гулять в утренние, солнечные часы. А Цветаева могла работать только по утрам — она не была «совой». Поэтому в каждый свободный от домашних забот час — она рвется к письменному столу. Когда она все-таки решится написать Пастернаку, она скажет «Я не любовная героиня, Борис. Я по чести — герой труда: тетрадочного, семейного, материнского, пешего. Мои ноги герои, и руки герои, и сердце, и голова». В этом письме — скрытое неодобрение поступком Пастернака. Она бы так не поступила. Она поступила не так. «…когда я<…> шла от С<ережи> к Р<одзевичу> и <…> от Р<одзевича> к С<ереже> — туда была язва, оттуда рана. Я с язвой жить не мог-ла<…> Моя радость, моя необходимость в моей жизни не значили. Точнее: чужое страдание мгновенно уничтожало самую возможность их. С<ереже> больно, я не смогу радоваться Р<одзевичу>. Кто перетянет не любовью ко мне, а необходимостью во мне (невозможностью без). Я знала — да так и случилось! — что Р. обойдется. (М.б. за это и любила?]) Катастрофа ведь только когда обоим (обеим) нужнее. Но этого не бывает. <…>Вот тебе мой опыт<…> Не совет. Пример. Отчет».