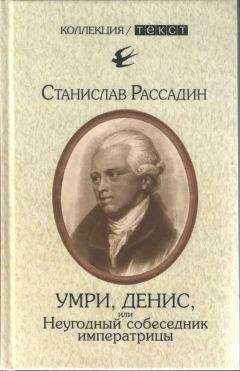Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
Парадокс: когда в азартную игру, в «сферу Случая» входят такие, вообще-то почтенные, вещи, как мастерство, искусство, тогда-то игра и становится бесчестной. Шулерской.
А шулерство при вопиющей его непочтенности тоже ведь, как все на свете, не есть нечто непеременчивое и безразличное к тому, что происходит… Нет, не в законах карточной игры, которые как раз не меняются или меняются туго, хотя та или иная игра может, устарев, уступить место новой, модной, а во времени. В большой жизни, чьи интересы уходят далеко за пределы карточного стола и вообще живут с полнейшим к нему безразличием.
Зато карточный стол не безразличен ко времени…
— Разве теперь игроки? Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство — прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик сумеет… Ни ума, ни искусства тут не нужно. Любой лапотник промечет. А прежде требовались и метка, и складка, и тасовка сквозная… А сколько разных авантажей — всех их знать надо было. А банки — «кругляк», «девятиабцужник», последний — когда девять карт из тринадцати бьются, а «кругляк» — когда бьются все подряд…
Дескать, в старые времена и фунты тяжелее были?
Кажется, что да, именно этой брюзгливостью, свойственной почти всякой старости, для которой лучше ее собственной молодости ничего не было и не будет, этим и только этим полон монолог старого шулера из очерка Гиляровского, озаглавленного, между прочим, «Ученик Расплюева». Но вот ситуация словно бы даже противоположная, рассказ Куприна с полупохожим названием «Ученик», где студент-умелец Држевецкий, читатель Ницше и Шопенгауэра, смотрит на шулера старой школы Балунского свысока.
Старик, молодо возгораясь воспоминаниями, вспомнит такие изыски, как крапленые колоды, изготовлявшиеся годами; кожу, подстригаемую на кончиках пальцев, дабы осязание было тоньше, чем у слепого; наконец: «Атласные карты… На карту наклеивается атлас. Трением о сукно ворс пригибается в одну сторону, на нем рисуется валет. Затем, когда краска высохнет, ворс переворачивают в другую сторону и рисуют даму. Если ваша дама бита, вам нужно только провести картой по столу».
«Если ваша дама бита» — ах, Германну бы такое умение (и такую низость паденья)! Но студент-рационалист, слушая, зевает. Он, как и положено современнику двадцатого века, хоть бы и зари его, допотопным искусством брезгует, предпочитая «игру на человеческой душе». Ему все известно наперед, вернее, назад, включая и то, во что обращались плоды мошеннического вдохновения:
«Ага! Завели любовницу, лихача, мальчика в белых перчатках за столом, да?.. Ну вот, видите: я это угадал заранее. В вашем поколении действительно было что-то романтическое. Оно и понятно. Конские ярмарки, гусары, цыганки, шампанское… Били вас когда-нибудь?»
Вот оно как: даже мордобой, некогда учиненный Ивану Антоновичу Расплюеву, виден из исторической дали как непременная принадлежность «романтической» эпохи шулерства — наряду с конскими ярмарками и гусарством…
Этот разочарованно-высокомерный шулер-психолог — фигура, модно мелькавшая и досадно примелькавшаяся в литературе начала нашего века.
Фигура вполне условная, которой все равно, откуда и куда перекочевывать в поисках непрочного пристанища, в третье-ли сортный рассказ, в декларативное ли стихотворение. Настоящий студент? Подлинный картежник? Полно! Скорее уж «юноша бледный со взором горящим» из брюсовской поэзии, которому автор-поэт внушал — и внушил! — свои «декадентские» заветы: «…никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно… Поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно…»
Да, так оно и есть: Држевецкий играет, мошенничает и выигрывает ради одной игры, ради утоления некоей своей страсти, практически бесцельно, без всякой корысти, — сам же признается старику Балунскому, что на черный день деньги уже отложены, а сегодня ему почти ничего не нужно, ибо он не пьет, отнюдь не гурманствует и пресытился женщинами.
Словом, дешевый, ходовой, модно-трафаретный вариант «чистого художника», жреца бесцельного и бесплодного творчества в брюсовско-бальмонтовском роде, — хотя, сказать к слову, некогда, а именно у Пушкина, в набросках к «Сценам из Фауста», этому картежному «искусству для искусства» приходилось представать и в виде поистине величественном:
— Что козырь? — Черви. — Мне ходить.
— Я бью. — Нельзя ли погодить?
— Беру. — Кругом нас обыграла!
— Эй, смерть! Ты, право, сплутовала.
— Молчи! ты глуп и молоденек.
Уж не тебе меня ловить,
Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить!
Тут и сарказм не способен сбить высоту тона и грандиозность образности; он, сарказм, и сам по себе величествен.
Смерть, артистически-бескорыстно шулерствующая в игре с Фаустом и Мефистофелем, в игре, где корысть изначально исключена самой необычностью, сверхреальностью игроков, не подверженных земным соблазнам, — вот нечаянно, походя возникший образ игрока, применившего свое опасное искусство, за которое в презренной житейской юдоли могут звездануть подсвечником и которое тут, вне быта, вне человеческих законов и правил, способно предстать неким вольным моцартианством.
Образ, что толковать, фантастический, но четко клейменный тем временем, в которое он возник.
Как и не слишком богато и даже не слишком старательно выписанный Држевецкий — не откуда-то, а тоже из своего времени.
Рассказ Куприна, конечно, не из лучших у него, а выражаясь без обиняков — плохой. Горький был прав, заметив: ««Ученик» написан слабо, небрежно и по теме своей — анекдотичен…» Но у плохих рассказов, — я имею в виду: у плохих, принадлежащих, однако, большим писателям, — есть своеобразнейшее преимущество: они наивны, прямолинейны; они, вызывая к себе иронию, всегда склонную разоблачить, раздеть донага, как будто вызывают тем самым огонь на себя.
Они заставляют нас увидеть в беззащитной ее обнаженности схему ситуации, которая, то есть схема, непременно утонула бы, порою до полной невидимости и неосязаемости, в произведении совершенном, — как пружина в отличном матраце.
Здесь, в купринском рассказе, пружина, увы, выпирает, и, уколовшись и напоровшись, невольно спохватываешься: да о чем же, господи прости, идет эта столь глубокомысленная речь? Ведь не о тех же областях творчества, к которым, как известно, только и стоит относиться с признательностью и почтением! Нет, о роде мошенничества, никак не более того!
Но это (по литературоведческому термину) остраняющее осознание и позволяет понять действительную необычность явления.
Шулерство — это всего лишь, казалось бы, ругательное слово. Занятие, заслуживающее, в зависимости от темперамента тех, кто возьмется его оценивать, высокомерного и нематериального презрения или вполне увесистого удара вышеупомянутым и пресловутым подсвечником, — а поди ж! Своя история с эпохами Ренессанса и декаданса, своя философия, своя эстетика, целая своя индустрия и даже некий почет, окружающий носителя если и не самой древней, то стародавней-таки профессии. Ибо она связана с риском: на шулерской подвиг ходят, ступая по смертной грани, как конокрады, которых литераторы (тот же Куприн) тоже возвышали над более прозаичным ворьем, будто людей словно бы с романтическим уклоном… Да, впрочем, и наисугубая деревенская реальность — не отличала ли она по-своему лихих похитителей Воронков и Гнедков, этих мужицких незаменимых помощников, почетно убивая конокрадов кольями, не то что каких-нибудь там карманников?..
Шулер-рационалист с пустым сердцем и пресыщенно-гипертрофированным мозгом, исторически заступающий место шулера-романтика, — эта коллизия, изображенная Куприным с чересчур уж безулыбчивой педантичностью, дает, повторю, возможность увидеть серьезную странность и странную серьезность того, что происходит в мирах, к человеческому содержанию которых мы вовсе не склонны относиться с тем же вниманием, с каким справедливо отнесемся к иной, достойной сфере применения сил, ума и таланта.
А сейчас, позаимствовав у купринского рассказа толику неожиданной этой серьезности, приступим с ней к произведению, где пружин — не видать, где все или почти все совершенно, превосходно, пластично, художественно. И ко всему прочему — смешно.
К «Игрокам» Гоголя.
— Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка?
— Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять, Андрей Иванович Пяткин: «Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик одиннадцати лет, сын Ивана Михаловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри!» Я, признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михаловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю: «Извините, я слышал, что бог наградил вас необыкновенным сыном». — «Да, признаюсь, говорит (и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), да, говорит, точно: хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо! Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечо не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать — я просто потерялся. Это превосходит всякое описанье.