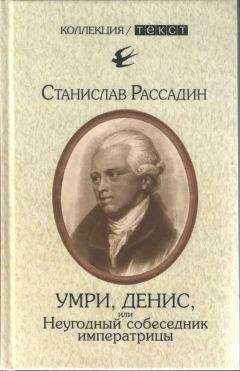Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
Попробуем прочитать пушкинский текст, не поддаваясь собственной памяти, которая непременно захочет нам подсказать, что вслед невольному убийце старухи-графини Германну идет «идейный» убийца старухи-процентщицы Раскольников, идут многие герои русской литературы, которых собственное злодейство, оказавшись непосильным, перевернуло и сокрушило.
Забыть об этом трудно, если вообще возможно, да в большинстве случаев и не нужно, потому что великое создание великого писателя живет и движется во времени. И конечно, дальнейшее развитие русской литературы во многом было и не могло не быть развитием пушкинских тем и мыслей, добавляя нечто хоть бы и к той же «Пиковой даме», договаривая то, что в ней было только намечено, и даже, как нам — не всегда несправедливо — кажется, проясняя и самое повесть, и характер ее главного героя.
А все-таки «Пиковая дама», Германн существуют и сами по себе, без «Преступления и наказания», без Раскольникова. И полезно иной раз избавиться от тени, которую бросают на то или иное произведение другие, идущие следом, — или, напротив, отвести от него их яркий и оттого слепящий свет.
Прочитать его просто. Просто прочитать.
Как во всяком гениальном произведении, в «Пиковой даме» есть свои странности, свои загадки — и есть разгадки к ним, которые тут же, сразу, безотлагательно предлагает нам Пушкин и которые уже по одной этой причине могут, кажется, вызвать сомнение в их подлинности.
«Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости».
«…Будучи в душе игрок, никогда не брал он карт в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее…»
Так вот: точно ли воображение Германна огненное? Точно ли он игрок в душе? То есть игрок по страсти, а не по занятиям, для кого игра — цель, а не утилитарное средство?
Вот надежно связанная цепочка его размышлений:
«Что, если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»
«…Попробовать своего счастия?..» Но разве это — «счастие» игрока, бросающегося в бездну неизвестности? («Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю…») Нет, это «счастие» спекулятора, как выражались прежде, да и то далеко не всякого, а такого, кто готов на любую низость ради денег. Даже возраст графини, подчеркнуто точно названный, — не «далеко за восемьдесят», не «под девяносто», а деловито прикинутая в мозгу цифирь: 87, — выдает хладнокровный прагматизм рассуждения. Казалось, молодому, здоровому мужчине тут невозможно не содрогнуться от отвращения: стать любовником полумертвой старухи?! Тем паче, что времена Екатерины и ее фаворитов-временщиков уже отошли, да царица и не дожила до столь устрашающего — для ее амантов — возраста… ан нет, и возраст будет помянут прямо-таки с насмешливой отчетливостью, ибо он означает только то, что можно не успеть залезть к графине в постель. Помрет.«…Через неделю, — через два дня!..»
Кстати, если бы Пушкину понадобилось сказать, что сама эта мысль далась Германну не без содрогания, тогда, вероятно, и оказалось бы уместно или хотя бы возможно это «под девяносто». Плоть, протестующая против чудовищного приказания, которое отдает ей мозг, не считает с точностью до двух дней. На дни считает голый расчет. «Огненное воображение», стало быть, уж по меньшей мере избирательно, — того физиологически ужасного пути, на котором Германн надеется добыть богатство, это воображение не оживляет, не материализует, оставаясь безучастным.
И сон Германна — даже сон! — как бы обделен воображением, которому только во сне бы и материализовать тайные помыслы, обделен трепетом, страстью; он, «игрок в душе», переживает в нем не карточную игру, не процесс ее, а выигрыш, завершение:
«…Когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства…»
У Николая Языкова есть не совсем скромные строки об эротическом сновидении: «Я задыхался и дрожал, и утомленный — пробудился». Германн спит спокойно, пробуждается поздно и только вздыхает; содроганий и тут в помине нету.
К Лизавете Ивановне, в него заранее влюбившейся, он подбирается, точнейшим, трезвейшим образом рассчитав, что это «пренесчастное создание», эта «домашняя мученица» (все понимает — неглуп) самолюбиво страдает в своем унизительном положении при графине, «с нетерпением ожидая избавителя». И со старухой, проникнув наконец в ее спальню, в этот роковой час говорит, все просчитав загодя — или ведомый своей логически безошибочной интуицией.
«Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут», — то есть для начала, для пробы обращается к ее доброте и рассудительности, к качествам наиболее основательным, становым.
Первый приступ не удается, и он взывает к чувственному опыту, к сентиментальности, — разумеется, для полноты впечатления падая на колени (нет, не так пылко: «…стал на колени», — говорит Пушкин):
«Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына…» — и так далее; вот на что небогато хватает его воображения, не слишком, признаемся, «огненного», потому что говорит он о том, чего не испытал и что ему недоступно. Наконец:
«Германн встал.
— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать…
С этим словом он вынул из кармана пистолет».
Даже ярости, даже ненависти, заставляющей потерять голову при мысли о том, что он утрачивает надежду на самое дорогое для себя, на деньги, здесь нет. «Я не хотел ее смерти, — скажет Германн потом Лизавете Ивановне, — пистолет мой не заряжен».
И это о нем-то, о таком наговорено вот этакое?
«— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства».
У Томского в повести участь — давать приблизительные или неосновательные характеристики. «Германн немец: он расчетлив, вот и все!» — хотя если и вправду расчетлив и если вправду по-немецки, то уж, безусловно, не «все». Не исчерпывается же он только этим. Что же до «романического лица», до Мефистофеля и Наполеона, то относиться серьезно к этой аттестации никак не приходится: Томский на балу занимает Лизавету Ивановну вяло, даже нехотя. Он, «дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку». Вот чем занята его голова, — да так ведь и вообще болтают с барышнями, теша их любящий очаровываться и пугаться слух, а заодно приукрашивая этим манером и себя самого, обогащенного такими сравнениями. Хотя сравнения-то — из самых простеньких: помнится, и Павла Ивановича Чичикова губернские дамы находили весьма романтически-загадочной особой, а губернские чиновники подозревали, что он не то что похож на Наполеона, а как раз и есть самый Наполеон, бежавший со Святой Елены.
Наполеон, Мефистофель — это общее достояние, принадлежность полукультурного обихода, почти жаргон. Расплюев и тот, желая возвысить Кречинского, — вспомним, — сравнивает его с французским императором. Даже Расплюев!..
Взгляд на Германна как на личность таинственную и вызывающую столь демонически-царственные сравнения не мог не быть подхвачен, особенно в случаях заведомо упрощенного, популярного, полулубочного истолкования повести, и вот, допустим, в немом еще фильме Протазанова «Пиковая дама» профильная тень, падающая на стену от Ивана Мозжухина, есть тень не кого иного, как императора Наполеона I.
Да, но ведь в повести примерно то же сказано и не устами Томского:
«Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну».
Однако тут ведь прямо говорится: она подняла глаза, и этими-то, ее глазами Германн увиден в эффектном свете, — как могло быть иначе у влюбленной или готовой влюбиться девушки, заинтригованной рекомендацией своего партнера по мазурке? Тем более, что этому ее преображающему взгляду предшествовало: «Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!»