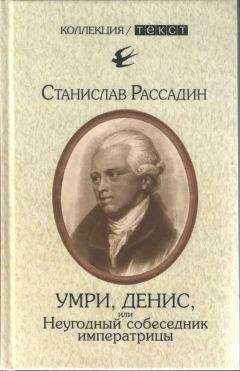Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
Итак…
Есть интереснейшая статья Юрия Лотмана под суховато-некратким, однако способным заинтриговать нас названием: «Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века».
Подчеркиваю: начала. В эпоху, для Кречинского и Расплюева доисторическую.
Изложу, не слишком злоупотребляя цитированием специального текста, важные для нас мысли.
«Нельзя не заметить, что весь так называемый «петербургский», императорский период русской истории отмечен размышлениями над ролью случая…» А также, что, впрочем, от случая неотрывно: «…противоречием между железными законами внешнего мира и жаждой личного успеха, самоутверждением, игрой личности с обстоятельствами, историей, Целым, законы которого остаются для нее Неизвестными Факторами».
(Из-за заглавных, персонифицирующих литер эти самые Неизвестные Факторы кажутся чем-то, вернее, кем-то вроде древнегреческих или древнеримских богинь или богов; скажем, Мойрами.)
И все это в литературе, в словесности на протяжении «петербургского» периода искало и нашло свое образное воплощение. Материализовалось — «через тему банка, фараона, штосса, рулетки — азартных игр».
Причины тому есть — и ежели не глобальные, то общеевропейские. Но нас-то больше сейчас занимает своя, «специфически русская ситуация».
Состоящая вот в чем:
«Начиная с Петровской реформы жизнь русского образованного общества развивалась в двух планах: умственное, литературное, философское развитие шло в русле и темпе европейского движения, а социально-политическая основа общества изменялась замедленно и в соответствии с другими закономерностями. Это приводило к резкому увеличению роли случайности в историческом движении… Приведем в качестве примера утверждения Пушкина, что в России нет подлинной аристократии, Андрея Тургенева, критиков-декабристов, Полевого, Надеждина, Веневитинова, молодого Белинского, Пушкина — что в России нет литературы, Чаадаева — о русской истории, славянофилов — о петровской государственности и общественности и проч., и проч. Каждый раз отрицаемый факт, конечно, существует, и это прекрасно понимают его отрицатели. Но он воспринимается как неорганический, призрачный, мнимый».
Да и не в словесности только дело; не в сложностях философии, не в закономерностях истории и вообще всего того, что рядовому человеку, далекому от высоких материй и насущно занятому вполне конкретным устройством своей судьбы и карьеры, благополучием собственной семьи, кажется несущественным и туманным, — нет, и судьба, и карьера, и благополучие тоже зависят от случая или, как в восемнадцатом веке говорили, «случая», от родственных связей, от чьего бы то ни было покровительства и благосклонности, а не от добросовестной выслуги, не от собственноличной заслуги. От них как раз могут и не зависеть, — мало ли примеров?
— Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином, а обойден я, я, лежавший тогда от ран в тяжелой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце…
Ситуация, растерзавшая сердце фонвизинского Стародума, — тоже наша, «специфически российская ситуация». К девятнадцатому столетию не переменившаяся. Не отменившаяся, по крайней мере.
Короче говоря, не то что сама история, но прозаическая служебная жизнь развивается незакономерно, непредсказуемо, — она, говорит Лотман, «цепь эксцессов»:
«Такие понятия, как «счастье», «удача» — и действие, дарующее их — «милость», — мыслились не как реализация непреложных законов, а как эксцесс — непредсказуемое нарушение правил. Игра различных, взаимно не связанных упорядоченностей превращала неожиданность в постоянно действующий механизм. Ее ждали, ей радовались или огорчались, но ей не удивлялись, поскольку она входила в круг возможного, как человек, участвующий в лотерее, радуется, но не изумляется выигрышу».
Сравнение, что называется, из богатых, однако не безразмерное; добавлю от себя, что в лотерее человек не выигравший не должен считать себя проигравшим, — по крайней мере, может не считать: тоже немало. Возможность неудачи, даже ее наибольшая вероятность, уже была включена в заранее обговоренные условия: выиграл — счастливчик, проиграл — не несчастен.
К концу девятнадцатого века в русской прозе один из модных мотивов, — не ходя далеко, вспомним хоть раннего Чехова, — это выигрышный билет (кстати, весьма характерно и вполне в духе времени вытесняющий тему схватки за карточным столом, схватки на жизнь или на смерть, на богатство или разорение). И ежели этот мотив зазвучит драматически, то это обычно связано с билетом, который уже выиграл, но украден либо потерян, не иначе — потому что в другом случае как ощутить потерю? Над чем зарыдать и заломить руки?
А билет, всего лишь не выигравший, не повод для беллетристического надрыва. Он лежит себе и лежит, еще не востребованный судьбою. Он есть — но его как бы и нет…
В жизнь входят не с той относительно смиренной надеждой, с какой покупают лотерейный билет, — и покупают-то задешево. В нее входят, дабы только выиграть. Ставкой здесь и является она сама, жизнь, — не мельче. И кто не выиграл, тот проиграл.
Что ж, тем более четкой моделью жизни, где либо выигрыш, либо проигрыш, а третьего не дано, оказывается карточная игра. Скажем, штосс — в него, к примеру, играл пушкинский Германн — или его варианты: банк, фараон.
Для ясности — вот упрощенная схема игры хотя бы в банк.
Банкомет объявляет ставку: столько-то и столько рублей. Его соперник, понтер, или соперники, понтеры, сообщают ответно, на какую часть ставки (банка) они понтируют. Играют, по-человечески выражаясь. Затем понтер называет карту, на которую будет играть, или просто молча загибает ей угол.
Банкомет начинает метать банк: берет карточную колоду и раскладывает карты: налево, направо, налево, направо… Если карта, выбранная понтером, легла справа, выиграл банкомет. Слева — понтер.
Воплощенная зависимость от слепой фортуны! Впрочем, неодинаковая.
Закончу цитировать лотмановскую статью:
«Ситуация фараона — прежде всего ситуация поединка: моделируется конфликт двух противников. Однако в самую сущность этой модели входит их неравенство: понтер — тот, кто желает все выиграть, хотя рискует при этом все проиграть, — ведет себя как человек, который вынужден принимать важные решения, не имея для этого необходимой информации; он может действовать наугад, может строить предположения, пытаясь вывести какие-либо статистические закономерности (известно, что в библиотеке Пушкина были книги по теории вероятности, что, видимо, было связано с попытками установить наиболее оптимальную стратегию для себя как понтера). Банкомет же никакой стратегии не избирает. Более того, то лицо, которое мечет банк, не знает, как ляжет карта. Оно является как бы подставной фигурой в руках Неизвестных Факторов, которые стоят за его спиной».
Словом:
«…Понтирующий игрок играет не с другим человеком, а со Случаем».
Да таков и традиционно-избитый поэтический образ: судьба мечет банк, человек понтирует.
Замечу и то, что впоследствии очень нам пригодится: для честной игры в банк или в штосс не нужно ни ловкости, ни ума, ни мастерства, — на то есть так называемые коммерческие игры, «интеллектуальная дуэль», где возможно перехитрить, переиграть, победить друг друга. В азартной же игре есть выигрыш, но нет победы — кто может сказать про себя, что победил, одолел, подчинил себе Случай? Его можно — если, разумеется, удастся — только исключить.
Мудрено ли, что человеку, понтирующему, играющему против судьбы, как раз и хочется исключить случайность? Исправить ошибку фортуны, как деликатно выразился некий колосс и страстотерпец карточной игры?..
Один из самых прославленных героев, неметафорически ставящих на карту свою судьбу, Германн, поглощен идеей такого исправления. Он хочет вытеснить Случай, заменив его Постоянством. И в этом смысле (заскочу вперед) он — человек будущего, он уже вышел из своего времени, в котором телесно продолжает жить. Являясь во многих отношениях антиподом нашего Михайлы Васильевича Кречинского, он сделал решительный шаг в его, Кречинского, эпоху. Мало того: он в большей степени подходит ей, чем сам Михайло Васильевич.
Попробуем — не торопясь — разобраться. Не торопясь и теперь уж не забегая вперед.
Попробуем прочитать пушкинский текст, не поддаваясь собственной памяти, которая непременно захочет нам подсказать, что вслед невольному убийце старухи-графини Германну идет «идейный» убийца старухи-процентщицы Раскольников, идут многие герои русской литературы, которых собственное злодейство, оказавшись непосильным, перевернуло и сокрушило.