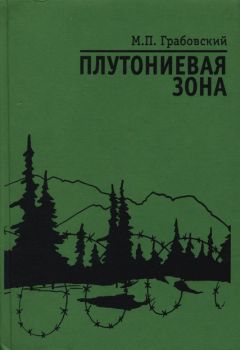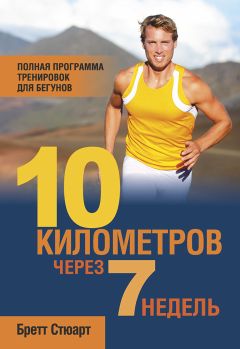Михаил Грабовский - Плутониевая зона
— А я архитектор, — ответила она его же тоном. — Ольга Константиновна. Заключенная Тагильского лагеря. В настоящее время проживаю в зоне особого назначения, барак № 8. В данный момент выполняю спецзадание: придаю цветную свежесть однообразному деревянному зодчеству середины двадцатого века.
Физик выглядел, даже со своей начинающей лысеть головой, значительно моложе ее. Как оказалось позже, Ольга была старше всего на три года.
— Понятно, — произнес авторитетно Яков Борисович. — Какова же ваша задумка?
Он показал рукой на стены.
Вожжа попала под хвост Ширяевой. Ответила, как с кафедры:
— Проект таков… Разноцветная гуашевая гамма в наружной отделке. Скромно, но со вкусом, без вычурности. Только на террасе дополняющее декоративное панно.
Добавила, переходя на шутку:
— Розы, фламинго, гирлянды звезд или горное озеро под луной — на ваш выбор.
— Понятно, — заверил Яков Борисович. — Значит, фламинго под луной. Очень занятно. Главное, оригинально.
Ольга почувствовала демонстрацию превосходства и некоторую снисходительность. В словах она не нашлась. Поэтому просто отвернулась и продолжила прерванную работу.
Яков Борисович обежал глазами ее плечи, спину, талию, обнаженные ноги. Ему показалось, что у нее совершенная, девичья фигура.
«Что же она натворила на воле? Такой женщине не место в лагере», — думал он.
— За что же вас? — вырвалось непроизвольно.
— Не надо об этом, — ответила Ольга тихо, не прекращая работу.
Замолчали оба. Ольга старательно красила. Яков сидел на замызганной табуретке, оглядывал ее всю, наслаждался мягким движением кисти.
— А могу ли я чем-нибудь посодействовать в вашей работе? У меня, — он посмотрел на часы, — еще почти двадцать минут бесполезного, очищенного времени.
Ольга приподняла плечи: не знаю уж. Толку-то от вас.
— Я могу, например, увеличить вашу производительность труда… с помощью создания… э-э… благоприятной звуковой атмосферы…
— Споете, что ли?
— Нет, петь я не умею. Могу прочесть какие-нибудь лирические стихи. А могу что-нибудь из прозы.
— Начните с прозы, — предложила Ширяева, — проза как-то привычнее, ближе.
— Значит, прозу? Ну хорошо. — Яков Борисович сел поудобнее, положил ногу на ногу. — Сейчас я настроюсь.
И, глядя на крепкие мышцы ее ног, напрягающиеся при высоких мазках, задумчиво и немного нараспев завел прозу:
— И снова, как когда-то в детстве, я сижу на террасе старенького деревенского дома… Всюду немота, молчание, свежесть ночного воздуха. Неподвижное, в белой звездной россыпи небо. Всюду предрассветное ничто.
Кисть остановила свое движение, упала бессильно вниз вместе с рукой женщины. Голова ее на миг закружилась от очарования далеких, почти забытых слов из той, прежней, московской жизни.
— И все кругом, — продолжал Яков Борисович более монотонно, почти без всякого пафосного выражения, — что-то затаенное, обещающее, светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую высь.
Ольга повернулась к нему с мгновенно вспыхнувшей жгучей благодарностью, как будто именно этих слов она ожидала четыре потерянных года, убитая дикой обстановкой, среди хамства, мата, вшей. Ей хотелось посмотреть Якову Борисовичу в глаза и сказать «спасибо». Но он смотрел не на нее, а куда-то поверх головы, в потолок. И продолжал, ничего не замечая, мучить и душить ее светлыми словами.
— Ни единого признака жизни… Ни единого… Ольга замерла, боясь нарушить волшебную сказку.
— Только сонная, холодная туманность…
Он замялся, как будто споткнулся о порог памяти, и добавил совсем грустным голосом:
— А я растворяюсь в неге, в звездах, в собственных мыслях. И думаю: как хорошо мне сейчас, Ольга, от вашего молчаливого внимания.
Ширяева очнулась разом и надулась:
— Ну, зачем же вы… подправляете классика? Разом испортили все впечатление от волшебных слов.
— Ольга Константиновна, простите. У меня получилось случайно, без умысла. Я просто забыл дальше. У меня, знаете, странная память. Длинные формулы мне легче запоминать, чем литературную вязь. Это от ущербности развития.
— Надо исправляться, — назидательно произнесла Ольга, глядя в блестящие на солнце точки его очков, — работать над собой. Вы еще молоды. Время впереди у вас есть.
Ей очень хотелось, чтоб он не замолчал надолго. Пусть бы говорил и говорил. Когда она следующий раз услышит подобные слова?
— Ну, если на классиков память у вас слаба, Яков Борисович, тогда уж попрошу что-нибудь свое. Попроще. Но только без формул, если можно.
— Свое? — переспросил он, загораясь азартом литературной фантазии. — Хорошо, попробую свое.
Он снова закатил глаза в потолок, внутренне напрягся, подбирая первую фразу (а там понесет по инерции), и заговорил театрально-трагическим голосом чтеца на сцене в рабочем клубе:
— Огромный равнодушный город устал от дневных хлопот и засыпал в безнадежной тоске о счастье.
Он хотел сначала произнести «о любви», но в последний миг передумал.
— Лунный свет никак не мог пробиться сквозь черноту ночных туч. Одинокий кривой столб электрического фонаря был уродливо нем. Лишь два запоздавших окна светили желтыми глазами на гулкие камни мостовой. Ночная дама, выйдя из-за угла, опустила вуаль, наклонила вниз передние поля фиолетовой шляпы и устало замедлила шаги. Подумала: «Где же он?».
— И где же? — хихикнула Ольга.
— Не мешайте, — оборвал Яков. — Подумала: «Где же он?». И тут же увидела. Он сидел под разбитым фонарем, у входной арки. Прислушивался к ее шагам. Вздрагивал от нетерпения грязной лохматой шерстью. Огромный уличный пес ожидал ее каждую ночь в одном и том же месте. Перед домом. Каждую ночь. И сегодня — тоже.
Здесь Яков Борисович сделал вынужденную паузу, совершенно запутавшись в ситуации и не зная, как дальше развернуть трагические события той жуткой ночи. Где-то… в какой-то момент… должен был прозвучать выстрел. И не успел. Помешала Ширяева:
— Глупо, затасканно и приторно! — произнесла она. — А дама ваша в фиолетовой шляпе — пошлый манекен. И пес неживой, а резиновый. Игрушечный. Из магазина.
— Неужели? — искренне удивился физик. — Какая жалость! А я так старался.
И добавил уже без сожаления:
— Вот потому-то, наверное, я не писатель, а физик. Фантазия у меня не того сорта.
Ширяева от души рассмеялась:
— Хорошо, что я в физике ничего не понимаю. А то бы вы мне сейчас такую фантазию из формул предложили. Похлеще лунной ночи.
— О! — Яков Борисович вскочил вдруг как ошпаренный. — Бежать надо.
И бросился прочь, к дороге, куда, вероятно, должна была подъехать за ним машина, чтоб отвезти на совещание к Музрукову. Постоял на дороге минуты три, поглядывая на часы и по сторонам. Вернулся неуклюжим полубегущим шагом.
— Я надеюсь, вы завтра еще не закончите работу здесь?
— Здесь работы на три дня, — вежливо ответила Ольга, усмехаясь его неловкости. И добавила: — А может быть, на неделю, Как получится.
— Получится. Обязательно получится, — бросил он скороговоркой и побежал к подъезжающей машине.
Ольга смотрела на облачко легкой пыли на дороге: «Можно бы и десять дней мазать. Только к чему это все?».
Она разрисовывала этот коттедж две недели, вплоть до окончания его командировки. И каждый день Яков Борисович находил в своем жестком графике минуты для встречи. В первые дни его слова казались ей напыщенным, искусственным остроумием мужчины, желающего во что бы то ни стало понравиться. И как можно быстрее. Но чем меньше оставалось дней до окончания командировки, тем встречи их становились грустнее, а слова его — проще, корявее, трогательнее. Последний день был очень тяжелым для обоих. Оставалось полчаса до отъезда. Десять минут. Минута. Что-то он должен был сказать ей важное. И когда шофер уже в третий раз нетерпеливо нажимал на сигнал, признался:
— Мне было хорошо с вами, Оля. Это не случайное увлечение командированного. Вы мне близки.
— Вы мне — тоже. И спохватилась:
— Но оценивать сейчас свои чувства к вам не могу.
— Почему же?
— Я не смогу объяснить вам, что испытывает благодарная женщина, оторванная от столичной жизни и законсервированная в грязном холодном бараке на четыре года. Мои чувства к вам могут быть случайными, сиюминутными. Понимаете?
— Я приеду сюда снова через два-три месяца. Обещайте, что не будете избегать встречи со мной.
— Обещаю.
— Спасибо. Я вас найду, когда приеду.
Шофер гудел непрерывно. Яков Борисович хотел сказать что-то еще. Но не смог. Понесся к машине. Помахал рукой, открывая дверцу.
Ни он, ни она не представляли, в какое чувство отольется их случайное знакомство в дальнейшем. Когда Ольгу раньше срока освобождали из лагерной зоны, Яков встречал ее с букетом цветов, как самого близкого человека, забыв о семье в Москве. А она выходила к нему с мокрыми глазами, как к отцу будущего ребенка, который шевелился в ней и просился на свет.