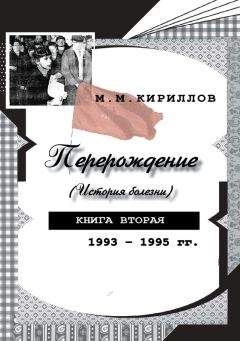Элен Драйзер - Моя жизнь с Драйзером
– Если сделка будет заключена, ты, может быть, снимешь квартиру в Родин-Стюдиоз?
Он заколебался, высказывая свои обычные сомнения в успехе предстоящих переговоров, но в конце концов согласился, и я, беззаветно веря в его восходящую звезду, воскликнула:
– Замечательно! Тогда квартиру можно считать нашей! Он сейчас же пошел на попятный:
– Да, но только в том случае, если сделка удастся, и при условии, что ты уговоришь их снизить плату на пятьсот долларов в год.
– Я попытаюсь,- сказала я.
После этого, твердо веря в то, что квартире 13 в Родин-Стюдиоз суждено стать будущим жилищем Теодора Драйзера, я заехала к управляющему домами и добилась некоторого снижения платы. Сделка была удачно завершена Драйзером, и арендный договор был подписан 1 декабря 1926 года; я сразу же пригласила декораторов. Последовавшие за этим недели были сплошным сумасшествием, подлинной оргией планирования, выбора рисунков и узоров, всевозможных разговоров с декораторами, художниками, электромонтерами, мебельщиками и транспортными конторами. Наконец, хаос уступил место порядку, исчезли упаковочные корзины и ящики, и дом, рисовавшийся в моих мечтах, принял реальные формы; в феврале од был готов для въезда.
Глава 16
Летом 1927 года мы приобрели чудесный холмистый, заросший лесом участок земли в Уэстчестерском округе, по соседству с одним из озер Кротон, близ Маунт-Киеко. Над озером, на вершине холма, стояла маленькая деревянная хижина, много лет служившая охотничьим домиком. Мы перестроили ее и превратили в красивый бревенчатый дом с несколькими верандами. Три-четыре подземных источника, из которых мы брали воду, были превращены в бассейн для плавания размером в пятьдесят футов на сто. Он был обложен камнем; к нему спускались четыре ступеньки. Вокруг бассейна росли огромные ореховые деревья, под которыми в жаркие дни всегда была тень и прохлада. Вдоль дороги по границе участка Тедди выстроил каменный забор в 850 футов длиною; по эскизу Уортона Эшерика были сделаны две калитки, на которых была надпись «Ироки», что по-японски значит: «Душа красок». Это был прелестный, живописный уголок, целый ряд лет доставлявший нам много радости; мы провели немало счастливых часов, стараясь сделать его естественную красоту еше ярче.
Тем же летом мы узнали, что «Американская трагедия» запрещена в Бостоне, и Тедди должен был поехать туда, чтобы присутствовать на суде. Проходя по вагонам, он, к своему удивлению, встретил Кларенса Дэрроу.
– Кого я вижу! Куда это вы направляетесь? – спросил Драйзер.
– В Бостон, на суд над вашей книгой,- ответил тот.- Как вам известно, я считаю, что вы написали великолепный роман, и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы защитить его.
Драйзер был очень доволен этой встречей. По дороге они много разговаривали; у них были общие философские воззрения, и оба считали, что в сущности никто из обвиняемых не виновен, если учесть окружающую их обстановку. Дэрроу сказал Драйзеру, что на основе материала «Американской трагедии» невозможно было бы установить вину Клайда.
– Преступление,- сказал он,- обусловлено причинами, которые не всегда можно выявить, установить и легко понять; чтобы не было преступлений, надо уничтожить их причину. Поинтересуйтесь историей любого заключенного, сидящего в тюрьме, и вы увидите, что у него не было иного пути, чем тот, который привел его в тюрьму.
В октябре 1927 года Драйзер получил приглашение приехать в Россию, чтобы он своими глазами мог увидеть достижения Советской республики за десять лет ее существования.
Когда я поняла, что Драйзер склоняется к мысли о поездке в Россию, мне тоже очень захотелось поехать с ним. Но он объяснил мне, что, для того чтобы иметь возможность свободно разъезжать повсюду, в любых условиях, ему нужно ехать непременно одному. Кроме того, наше строительство в Маунт-Киско было в самом разгаре, и кто-то должен был наблюдать за ним.
– Ну, хорошо,- сказала я, не вполне убежденная его доводами,- тогда я, по крайней мере, встречу тебя на обратном пути в Париже или в Лондоне, а ты привезешь мне пару красных русских сапожек.
– Боже мой! – воскликнул он.- Я должен ехать за шесть или семь тысяч миль, для того чтобы привезти красные русские сапожки! Вот зачем там устроили революцию,- чтоб я мог поехать туда и купить красные сапожки! Ну ладно, если они там есть, так или иначе я их достану.
Вскоре из России пришли телеграммы, подтверждающие приглашение, переданное Драйзеру, и гарантирующие выполнение всех связанных с поездкой обязательств, взятых на себя Международной помощью рабочих. Была получена каблограмма от Максима Литвинова, заместителя народного комиссара иностранных дел, в которой говорилось, что Драйзер будет гостем советского правительства.
В ресторане Шварца в Гринвич-Вилледж был устроен прощальный обед, на котором присутствовало большое общество. Гости произносили напутственные речи. Драйзер ответил им, хотя в то время для него не было ничего труднее, чем выступить с публичной речью,- он просто физически страдал от этого, и в тот вечер, видя, как он нервничает, я страдала вместе с ним. Только после того как он вернулся из России и почувствовал настоятельную необходимость рассказать обо всем, что он видел, Драйзер преодолел в себе эту робость и, в конце концов, стал превосходным оратором.
После обеда мы все отправились на пароход; красивая каюта Драйзера оказалась заваленной цветами и подарками.
На пароходе нас окружила толпа репортеров, и в два ряда выстроились фотографы. Начались нескончаемые шутки, смех и суета, пока в одиннадцать часов не прозвенел звонок, возвещавший, что всем провожающим пора сходить на берег. Тедди, наконец, остался один, а мы сошли на мол и долго еще махали вслед отчалившему пароходу.
Первую весточку от Драйзера я получила из Берлина; это была каблограмма, в которой говорилось, что он не только скучает по дому, но еще и заболел и не уверен, сможет ли продолжать путешествие. В Берлине у него начался один из его обычных приступов бронхита. Два врача, которым он показался, сделав рентгеновский снимок дыхательных путей, стали категорически возражать против поездки в Россию, особенно в зимнее время. Они настаивали, чтобы он полечился в санатории.
– Господа,- сказал Драйзер,- это очень заманчиво, но слишком уж неожиданно. Прежде всего, позвольте вам сказать, что я ни в какой санаторий не поеду, а поеду в Россию. Возможно, здоровье мое и плохо, но, знаете, я смерти не боюсь.
– Ну, кто же говорит о смерти! Вы нас не поняли. Ваша болезнь не так уж серьезна. Но, тем не менее, вы очень больны. Ваше здоровье внушает опасения. Может быть, вам угодно, чтобы мы вас направили к другому врачу?
– Нет,- ответил Драйзер. – Я не пойду ни к какому врачу, кроме того, которого сам выберу.
Они принесли ему рентгеновский снимок, чтобы он сам мог судить о своей болезни.
– Сам я не могу судить,- возразил Драйзер.- Я ничего не понимаю в этих снимках. Вот что я сделаю. Если каждый из вас напишет мне письмо с объяснением моей болезни, я пошлю эти письма вместе со снимком другому врачу, и, если он с вами согласится, я вам дам знать об этом. Если же нет, то будем считать этот инцидент исчерпанным.
На этом и порешили, и врачи тут же продиктовали соответствующие письма.
С помощью Синклера Льюиса Драйзер разыскал другого врача. Прочтя письма и посмотрев снимок, тот сразу стал очень серьезен. Тщательно исследовав Тедди у себя в кабинете, а потом в госпитале Августы-Марии, он тоже предупредил его, что русская зима представляет для него опасность, и пытался уговорить его вернуться в Нью-Йорк. Тедди не стал с ним спорить, но сам тем временем готовился к поездке в Россию. Перед отъездом, однакё, он успел посетить Фрэнка Харриса, Гергарта Гауптмана и еще нескольких человек.
2 ноября Тедди выехал в Москву. Перед отъездом он получил много цветов и приветственных телеграмм, на вокзале собралась целая толпа провожающих. Наконец, как он мне писал, он остался один в купе на пути в Россию, где ему предстояло самому разобраться в справедливости противоречивых мнений об этой стране, в диаметрально противоположных взглядах, которые высказывались в печати по поводу всего, что происходило в стране, занимающей одну шестую земного шара.
Трудность такой поездки в зимнее время, усугублявшаяся неудобствами передвижения, которые Тедди впоследствии описал в своей книге, заставила меня немало поволноваться за время его отсутствия. Поскольку дело касалось устранения его физических неудобств и предотвращения реальной опасности, я была бессильна, но я могла оказать ему моральную поддержку, и все свои мысли сосредоточила на том, чтобы облегчить его душевное состояние.
Из опыта прежних путешествий с Тедди я знала, как тщательно он исследует поле своих наблюдений; это подтверждают его записи, сделанные только для себя во время поездки. Он ездил по России, стараясь уяснить себе социальное значение каждого мероприятия с русской точки зрения, противопоставляя ее собственным взглядам на правительство, экономику, индивидуальную и коллективную психологию и на проблему индивидуализма, которую он никогда не упускал из виду.