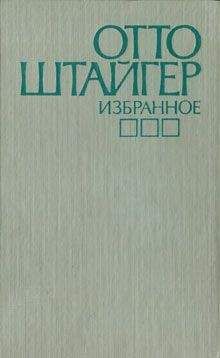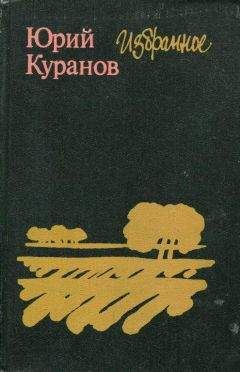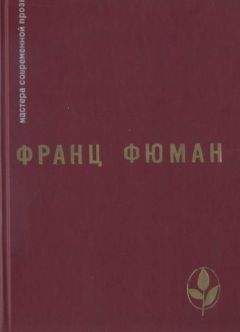Юрий Скоп - Избранное
— Неинтересно слушать, как тут перед тобой все стараются. Трясут, что называется, воздух… Думаю, что это пустое занятие!
— Я тоже так считаю… — сказал Григорий.
— А вот насчет плачущего большевика, Гриша, то тут я ни со Скороходовым, ни с самим Маяковским… не согласен. Не согласен, Гриша, ты слышишь меня? — Верещагин вплотную подошел к двери. В комнате стало тихо. И у Григория, за дверью, перестала бренькать гитара. — Плачут, Гриша, большевики. Плачут!.. И это, между прочим, прекрасно… Потому что они прежде всего, Гриша, люди, а не железки, и им по-людски дано понимать людскую боль… Из нас четверых тут, Григорий, трое плакали, и еще как!.. — когда мы на Висле едва-едва не потеряли твоего отца… Это был страшный день, Гриша… От нашего батальона не осталось и роты тогда… Погибли такие товарищи… — Тучин слушал сейчас Верещагина, а сам все смотрел и смотрел на увеличенную фотографию в металлической окантовке, что висела над диваном. Точно такие же он уже видел у Кряквина дома и у Егора Беспятого. И только сейчас, именно вот в эту минуту, Павел Степанович понял, что эти молодые совсем, в гимнастерках с медалями и орденами, улыбающиеся на понтонном мосту люди значат друг для друга. — Нас варили тогда в кипятке, Гриша… А отца твоего мы… Вот Алексей знает, как это было… И как мы плакали потом… Думали, что погиб Иван… И мы плакали, и зубами скрипели… А потом с этими слезами и скрипом взяли Берлин… И к чертовой матери разнесли эту!.. — Верещагин замолчал и отвернулся…
Всхлипнула Зинка… И почти одновременно с этим всхлипом распахнулась дверь. На пороге возник Григорий. Небритый. В тельняшке. С гитарой, как с автоматом, в руках… Секунду он постоял молча, обводя забинтованной головой всех, потом вдохнул в себя воздух и… улыбнулся.
— А теперь… премьера песни! Хорошей, между прочим, песни-то… Я вот ее все в «Пурге» собирался пропеть… для народу!.. Но да ладно… Вам спою, а потом мы, наверно, поговорим по душам… Ох уж и посмотрю я на вас!.. — с какой-то непонятной угрозой сказал он последние слова, вернулся назад в свою комнату, и всем стало слышно, как там забулькало из бутылки. — Вот так, значит!.. — крякнул Григорий, снова появившись в гостиной, и вытер рукавом тельняшки рот. — Это чтобы дети грому не боялись. Подал бы калеке кто-нибудь стул, что ли?
Серега первым среагировал на это, хватая свою табуретку. Поставил ее возле друга, помог ему сесть.
— Пой, Гриша, пожалуйста, пой, дарагой…
— Пою, Гамлет, пою… — с хрипом вздохнул Григорий и выбрал аккорд. Еще один… Слегка подкачнул гриф, придавая звучанию щемливо расплывчатую вибрацию. Уронил голову на грудь и запел:
— В горнице моей светло… Это от ночной звезды… Матушка возьмет ведро, молча принесет воды…
…Красные цветы мои… В садике завяли все… Лодка на речной… на речной мели… скоро догниет совсем…
…Дремлет на стене моей… Ивы кружевная тень… Завтра у меня под ней будет хлопотливый день…
…Буду поливать цветы… Думать о своей судьбе… Буду до ночной… до ночной звезды… лодку мастерить себе…[2]
За окном комнаты скопилась темнота. Видно было, как поблескивают звезды. Зинка беззвучно глотала слезы, слизывая их с губ языком. Остальные сидели с серьезными, закаменевшими лицами. Трудно, ей-богу трудно, было слушать эту песню, в которой за простыми совсем словами вдруг вскрывалось что-то очень понятное и печальное…
Медленно растворился последний всплеск струны. Григорий мотнул головой, поднял гитару, а потом вдруг треснул ее об колено… Отшвырнул обломки, скрежеща зубами…
Надежда Ивановна замерла в двери с открытым — остановился в нем крик — ртом…
Григорий встал, потирая ладонями, обвел комнату перевязанными глазами и сказал:
— А теперь я буду спрашивать у вас… Так сказать, заделаю экзамен… Ну-ка, скажите, вы… вот все вы! Вы честные, а?
— Убеждены в том, — коротко отозвался Беспятый.
— Как фамилия? — спросил Григорий.
— Беспятый.
— Привет, Егор Палыч. Привет… Ответ не правильный, ставлю тебе пару. Вот так!..
— Гришка… — процедил сквозь зубы Иван Федорович.
— Чево?
— Предупреждаю…
— Каво?
— Тебя…
— Ни хрена, батя… Я щас сам вас всех предупрежу. Сам!
— Так в чем я не прав, Гриша? — невозмутимо спросил Беспятый, погрозив Гаврилову пальцем: мол, не надо, не обостряй.
— А во всем… Честность-то, к вашему сведению, не есть убеждение. Честность-то, братцы, есть нравственная привычка. Поняли?.. Это еще Толстой сказал… Вот так! А сейчас перейдем ко второму вопросу… Интересно бы знать… Как, по-вашему… правда на свете есть?
— Есть, Гриша, — ответил Тучин.
— О-о… Еще чей-то голос…
— Это я, Тучин.
— Да вы что?.. Всем Полярском сюда сбежались?.. Поминки мне, значит, устраиваешь, папаня? Ну, спасибо тебе… Век не забуду… Значит, есть, говоришь, правда, Пал Степаныч?
— Есть.
— И что же с ней делают, когда она есть?
— Живут с ней, Григорий.
— Та-ак… Допустим… Токо жить-то ведь с ней можно и втихаря, и чтобы никто не узнал… А? Зажал эту правду за пазуху, и конец!.. Не так, что ли?..
— Позвольте мне… — очень вежливо обратился к Григорию Утешев.
— Тьфу ты! Еще кто-то…
— Утешев. Добрый вечер…
— Привет… Говори, Илья Митрофанович…
— Это, Гриша, давно уже было. В Норвегии… Я там в концлагере сидел… — Утешев сухо кашлянул. — У меня будет просьба ко всем… Подробностями потом… моей биографии не интересоваться. Надеюсь, вы меня понимаете?.. Это чрезвычайно неприятно припоминать… Так вот… Однажды в бараке один человек рассказал нам притчу о правде… Под настроение, между прочим, рассказал ее… В тот день нас загоняли по каменоломне и десять человек конвоиры убили… А притча была вот о чем… Один, значит, очень обиженный, отправился по белу свету искать правду. Обошел его весь, белый свет, и нигде не смог встретиться с ней… Старый стал совсем, обессилел, изорвался… Одна кожа да кости. И вот забрел он как-то в какую-то крохотную деревушку в горах… Ночь, холодно. Просится переночевать. Не пускают… Наконец-то в самой уж последней развалюхе избенке открывает ему дверь такая немощная, беззубая, слепая, грязная старуха. В чем только душа держится… Открывает и говорит: «Заходи, ночуй. Места не жалко…» Ну, наш обиженный прилег у порога, а старуха расспрашивает: «Ты чего, мол, по свету-то маешься? Чего ищешь, сынок?..» Он рассказал ей, что вот ведь всю жизнь проискал по белу свету правду, да так и не встретил нигде… Тогда старуха подходит к нему и говорит: «А ведь я, сынок, и есть самая настоящая правда…» И документы предъявляет соответственные, в которых черным по белому сказано — правда и есть… Обиженный, конечно, заахал, заохал… Очень даже расстроился. Говорит правде: «Какая же ты страшная… Да как же я теперь о тебе другим людям расскажу?.. Это их ужасно огорчит…» А правда ему отвечает: «А ты им солги…»
— Во-о! — со злостью воскликнул Григорий. — Вот это да!.. Сама правда врать обучает! Железно! Дай, Митрофанович, пять! — Он протянул руку.
— Да нет, Гриша… — мягко остановил его Утешев. — Пять я тебе, к сожалению, подать не смогу. Не понял ты сказочки-то… Не дозрел, стало быть.
— Вы-то «дозрели»… — оскалился Григорий, — Перезрели, однако!
— Возможно, Григорий Иванович… — Утешев опять кашлянул и ненужно поправил галстук. — Во всяком случае, я… а я тогда и тебя помоложе был… за вот эту вот сказочку… три недели потом отстоял в бетонном мешочке. Навытяжку причем отстоял. Падать там некуда было, понимаешь?.. Ну а тот, кто ее рассказал… без зубов остался. Больше я ничего не успел. Помешали… А теперь суть, Григорий Иванович. Этой вот сказочкой в нас хотели неверие поселить, понимаешь?.. И тот, кто рассказывал ее, на немцев работал. На практике, так сказать, психологический эксперимент проводил… Понял?! — шепотом окончил Утешев.
Григорий даже отшатнулся… одними губами, без звука, выговаривая что-то… Повернулся было, собираясь уйти в свою комнату, но передумал… Взъерошил волосы пятерней…
— Ладно… ваша взяла. Дурак я, наверно… О-ох и дурак! Ни хрена!.. Это хорошо, что вы здесь собрались… Хорошо! Я бы все равно каждого из вас обошел… Жалко вот только… глаз ваших не увидел бы… Я ведь мразь, ребята!.. Самая последняя мразь!.. Это же ведь из-за меня тогда взрыв получился. Из-за меня, слышите?!
— Что ты мелешь, Григорий! — сорвался на крик Иван Федорович. — Замолчи!
— А-а… Очко заиграло, папаня?.. Ничего, подержись. Вы же честные все тут! Вы же правды хотите?! Вот вам правда. Хоть ложкой ешьте ее, а я посмотрю щас на вас. Комиссия-то акт липовый подписала. А все-то вот как было… Мы тогда, в феврале, перед тем массовым взрывом веера конопатили… Пневмозарядчик тогда три дня не работал, поняли? Сперва изломался, а потом гранулированной взрывчатки не подвезли… Мы вручную штукатурили скважины. И торопились шибко… До хрена тогда битого аммонита в штреке осталось. Тонны полторы… А вы же начальники, вы же наши порядки знаете лучше меня… Куда ее потом, колбасу эту битую?.. На склад? Да лучше умереть, чем сдавать ее… В общем, когда все ушли после смены… мы… это, значит, я и Санька Капустин, подручный мой… он теперь в Морфлоте служит… весь этот бой в восстающую и поскидали… Хотели замочить водой, а магистраль уже вырубили. Ведра четыре всего вылили… Думали, при массовом-то взрыве… там же четыреста пятьдесят тонн рвали… и эта сгорит. А вышло вон как… В общем, не отказ это был в минном кармане, нет… Это наша взрывчатка сработала. Понял, папаня?.. Все как на духу рассказал. Может, полегчает теперь… Как занозу таскал тута… — Григорий ткнул себя пальцем в грудь. — А вот вы чо делать будете, не знаю… Может, темнить, а? Ну, чо вы припухли? Не слыхать вас стало… Ведь это же правда, между прочим… Правда! Только за нее вас с работы посымают, вот в чем вапроз, как говорит один мой кореш… Быт ил нэ быт?..