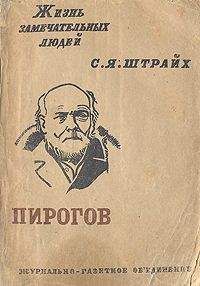Энн Эпплбаум - ГУЛАГ. Паутина Большого террора
Партия боялась признаться и в слишком большом количестве внутрипартийных ошибок. Из более чем 70 000 заявлений о восстановлении в КПСС было удовлетворено менее половины.[1405] В результате полная социальная реабилитация с возвращением работы и квартиры, со справедливым назначением пенсии была очень редким явлением.
Гораздо более обычными, чем полная реабилитация, были сложные, двойственные переживания, о которых пишет Ольга Адамова-Слиозберг, начавшая хлопотать о реабилитации себя и покойного мужа в 1954-м. Ждать пришлось два года. Наконец в 1956 году, после доклада Хрущева, она получила долгожданные справки. Ее дело было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. «Арестована я была 27 апреля 1936 г. Значит, я заплатила за эту ошибочку 20 годами 41 днем жизни». Кроме того, ей полагались «двухмесячные оклады, мой и моего мужа, и еще 11 руб. 50 коп. за те 115 рублей, которые были у моего мужа в момент смерти». И все.
Стоя со справками в приемной Верховного суда и пытаясь постичь произошедшее, она вдруг услышала крик. Кричала старуха украинка, только что получившая такие же бумаги: «Не нужны мне деньги за кровь моего сына, берите их себе, убийцы. — Она разорвала справки и швырнула их на пол.
К ней подошел военный, раздававший справки.
— Успокойтесь, гражданка… — начал он. Но старуха снова закричала:
— Убийцы! — Плюнула ему в лицо и забилась в припадке. Вбежал врач и два санитара, и ее унесли.
Все молчали подавленные. То здесь, то там раздавались всхлипывания и громкий плач. <…> Я вошла в свою квартиру, откуда меня уже не будут гнать милиционеры. Дома никого не было, и я могла, не сдерживаясь, плакать.
Плакать о муже, погибшем в подвале Лубянки в 37 лет, в расцвете сил и таланта; о детях, выросших сиротами с клеймом детей врагов народа, об умерших с горя родителях, о двадцати годах мук, о друзьях, не доживших до реабилитации и зарытых в мерзлой земле Колымы».[1406]
Хотя о возвращении из лагерей и ссылки миллионов людей мало что написано в стандартных книгах по истории СССР, оно должно было ошеломить миллионы других советских граждан, с которыми освободившиеся встретились. Закрытый доклад Хрущева, конечно, был потрясением, но он предназначался в первую очередь для партийных руководителей, далеко отстоявших от рядовых граждан. Напротив, появление людей, долгие годы считавшихся мертвыми, довело смысл доклада до сознания очень и очень многих куда более действенным образом. Сталинская эпоха была эпохой тайных пыток и скрытого насилия. И вдруг возникли бывшие лагерники, готовые предъявить живые свидетельства произошедшего.
Кроме того, они приносили новости, хорошие и плохие, о давно исчезнувших людях. В 50-е годы обычным делом для выпущенных на свободу было посещать родственников своих умерших или живых товарищей и передавать устные сообщения или предсмертные слова. М. С. Ротфорт, возвращаясь в Харьков, заехал в Читу и Иркутск повидать семьи друзей. Густав Герлинг-Грудзинский нанес неловкий визит семье своего солагерника генерала Круглова. Жена генерала испугалась, не сказал ли гость ее дочери, что отец получил новый срок, часто поглядывала на часы и не позволила ему остаться переночевать.[1407]
Возвращавшиеся были источником ужаса для прежних начальников и сослуживцев, прежде всего для тех, по чьему доносу они были арестованы. Алла Андреева вспоминала лето 1956 года, когда все поезда по линии Караганда — Потьма — Москва везли одних только бывших заключенных: «Все было полно невероятной радости и нерадости, потому что тут же встречались люди, которые посадили других, так что всего тут хватало, и печального, и радостного. И вся Москва была полна этим…».[1408] В повести «Раковый корпус» Солженицын изображает реакцию больного раком партийного начальника на слова жены о том, что его бывший друг, на которого он написал донос, чтобы завладеть его комнатой, реабилитирован: «Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел — в поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивала набок опухоль.
— Зачем ты мне сказала? — несчастным, очень слабым голосом произнес он. — Неужели у меня мало горя? Неужели у меня мало горя?.. — И он дважды произвел без слез плачущее вздрагивание грудью и головой. <…>
<…> — Какое ж они право имеют теперь их выпускать?.. Как же можно так безжалостно травмировать людей?..».[1409]
Чувство вины порой становилось непереносимым. После доклада Хрущева Александр Фадеев, известный писатель, убежденный сталинист и влиятельный литературный чиновник, ушел в запой. Пьяный, он признался знакомому, что в качестве руководителя Союза писателей СССР санкционировал аресты ряда писателей, зная об их невиновности. На следующий день Фадеев покончил с собой. По слухам, его предсмертное письмо в ЦК состояло из одной фразы о том, что, убивая себя, он посылает пулю в политику Сталина, эстетику Жданова, генетику Лысенко.[1410]
Другие сходили с ума. Инструктор ЦК ВЛКСМ Ольга Мишакова в сталинскую эпоху написала донос на комсомольского лидера Александра Косарева. После 1956 года Косарева реабилитировали, а Мишакову вывели из ЦК. Тем не менее целый год она продолжала являться в здание ЦК и с утра до вечера сидела в своем пустом кабинете, выходя лишь на обеденный перерыв. Когда у нее отобрали пропуск, она весь рабочий день стояла у входа в здание. Затем ее мужа перевели на работу в Рязань, но она каждое утро в четыре часа садилась на московскую электричку и проводила день на прежнем посту. В конце концов ее поместили в психиатрическую больницу.[1411]
Даже если дело не кончалось сумасшествием или самоубийством, мучительные встречи людей из разных миров порой отравляли московскую общественную жизнь после 1956 года. «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили», — писала Анна Ахматова.[1412] Многие руководители страны, включая Хрущева, многих вернувшихся знали лично. Как пишет Антон Антонов-Овсеенко, один такой «старый друг» в 1956-м пришел к Хрущеву и стал уговаривать его ускорить реабилитацию.[1413] Хуже было, когда бывший зэк встречался со своим бывшим тюремщиком или следователем. В самиздатовском «Политическом дневнике» Роя Медведева за 1964 год под псевдонимом «П. Леонидов» опубликованы воспоминания бывшего арестанта о случайной встрече в поезде со своим следователем, который попросил у него денег на выпивку. «П. Леонидов» отдал ему все деньги, какие у него были, — немалую сумму — просто для того чтобы он поскорее ушел. Автор воспоминаний боялся, что не выдержит и выплеснет на следователя всю накопившуюся ненависть.[1414]
Чрезвычайно неприятной могла быть и встреча с преуспевающим бывшим другом, подобная той, какая случилась у Льва Разгона в 1968-м — через десять с лишним лет после его возвращения.[1415] Юрий Домбровский выразил свои чувства по сходному поводу в стихотворении «Известному поэту»:
Нас даже дети не жалели,
Нас даже жены не хотели,
Лишь часовой нас бил умело,
Взяв номер точкою прицела.
<…>
Ты просто плыл по ресторанам
Да хохмы сыпал над стаканом,
И понял все, и всех приветил —
Лишь смерти нашей не заметил.
Так отчего, скажи на милость,
Когда, пройдя проверку боем,
Я встал из северной могилы,
Ты подошел ко мне героем?
И женщины лизали руки
Тебе — за мужество и муки?!
Лев Копелев, вернувшись, обнаружил, что ему трудно с благополучными людьми. «Встречаюсь только с теми из бывших друзей, кто хоть как-то неблагополучен», — говорил он.[1416]
Еще одним источником мучений для бывших зэков был вопрос: как и сколько рассказывать о лагерях родным и знакомым. Многие пытались оберегать детей от тяжелой правды. Дочери конструктора ракет Сергея Королева не говорили, что ее отец побывал в лагере, пока она не окончила школу и ей не пришлось заполнять анкету с вопросом о том, находился ли кто-либо из ее родственников под арестом.[1417] От многих при освобождении требовали, чтобы они дали подписку о неразглашении, и кое-кому это затыкало рот — но не всем. Сусанна Печуро наотрез отказалась что-либо подписывать: «Теперь вся моя оставшаяся жизнь будет посвящена только одному — рассказать всем, что у вас тут делается».
Другие обнаруживали, что друзья и родные если и интересуются тем, что они пережили, все же не хотят знать этого в подробностях. Люди боялись — боялись не только вездесущих «органов», но и того, что могли узнать о близких. Писатель Василий Аксенов (сын Евгении Гинзбург) в трилогии «Московская сага» изобразил трагическую в своем правдоподобии встречу мужа и жены после лагерей, в которых они содержались раздельно. Муж сразу замечает, что она подозрительно хорошо выглядит. «Нет, подожди! Ты прежде скажи, как ты умудрилась не подурнеть? <…> Ты даже не похудела совсем. Вероника! Подкармливали?» — спрашивает он, очень хорошо зная, за счет чего выживали в ГУЛАГе многие женщины. «Потом они долго лежали неподвижно, он на боку, она — уткнувшись лицом в одеяло. Тоска и горечь выжигали их дотла».[1418]