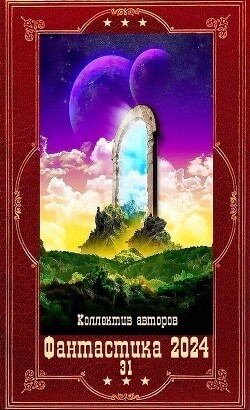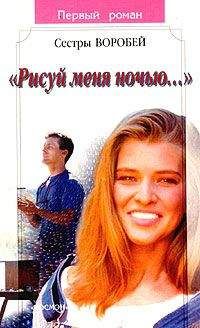От Рафаэля до Кавалера д’Арпино. Устройство римских живописных мастерских XVI века - Лубникова Мария Владимировна
Такие же далекие от обучения художников цели ставило перед собой и Братство святого Луки, существовавшее в Риме еще со Средних веков. Именно эту организацию, в основном занимавшуюся юридической стороной жизни мастеров, Джироламо Муциано трансформировал в дальнейшем в Академию [458]. Переход этот был достаточно плавным, и даже в своем завещании Джироламо упоминал об Академии, используя старое название Societati Pictorum Urbis (Общество художников города). Стоит отметить, что традиция возникновения художественных академий на основе средневековых гильдий была вполне характерна и для других итальянских городов, что может свидетельствовать о том, что противоречие между средневековым подходом к управлению жизнью художников и академическим подходом было не так очевидно для Муциано и его современников, как оно очевидно для нас [459]. При этом интеллектуальные и теологические амбиции Муциано и папы Григория XIII вышли за рамки гильдий позднего Чинквеченто.
Ни у одного из братств не было образовательной функции, и в условиях нехватки традиционных живописных мастерских как пространства для обучения художники неизбежно чувствовали необходимость организовать для этой цели что-то новое. Устройство обучения в Академии отличало ее и от братств, и от мастерских. Нет никаких свидетельств о том, что во времена Муциано здесь читались лекции о философии и эстетике, как это случится позже, однако, безусловно, и тогда и потом в преподавании присутствовали дидактические идеи, связанные с христианским воспитанием художников и инспирированные Контрреформацией. Чезаре Неббиа в 1594 году писал Федерико Борромео, кардиналу-протектору Академии, что художнику необходимо христианское образование для того, чтобы изображать библейские сюжеты [460].
Согласно не самому надежному брешианскому источнику, приведенному в трактате XVII века «Любовь к искусству» Лодовико Давида, Муциано организовал в Академии обучение математике, анатомии, теории искусства, различным техникам, включая мозаику; построил большой зал со слепками античных скульптур; планировал отправлять учеников в Ломбардию и Венецию, чтобы копировать не только римских художников, но и Тициана, Корреджо, Веронезе и других. Н. Тернер первым предположил, что брешианский источник, вероятнее всего, был сфабрикован Давидом [461]. Можно отметить только, что некоторые из упомянутых пунктов правдоподобны: гипсотека действительно упоминается в завещании Муциано, мозаики были частью его практики, например в Григорианской капелле, а его собственная биография, связанная с обучением в Венеции, могла повлиять на его решение отправлять туда же других.
Деятельность Академии изменила римскую художественную практику, связанную с рисунком: главным образом это касалось роли натурных штудий на подготовительных этапах работы. Отношение к натуре в целом стало более внимательным к концу Чинквеченто, но тот факт, что использование натурщиков в работе было прописано в правилах работы Академии, сильно способствовал унификации методов работы различных мастеров.
Однако же во времена Джироламо Муциано этот процесс только начинался. С одной стороны, Муциано, сам бывший руководителем многих проектов, столкнулся с необходимостью нанимать начинающих художников, не связанных с его мастерской, и видел неудачные результаты. Но в его Академии, судя по всему, ученики тренировались не так, как это будет при Цуккаро. На ранних этапах существования Академии в Риме практика рисования обнаженной модели здесь практически отсутствовала, в отличие от Академий Флоренции и Болоньи [462]. Дж. Марчари и П. Тозини высказали противоположные мнения о роли натуры в практике Академии Муциано [463]. Первый полагает, что Муциано и его ученики создавали эскизы исключительно «из головы», опираясь в своих фантазиях на предварительное изучение античной пластики. Второй, напротив, утверждает, что Муциано много работал с натуры, и его подготовительные наброски выполнены с использованием конкретных классических образцов. Ни у одной из версий нет однозначных доказательств, но важнее то, что в практике Муциано действительно было мало рисунков с живых моделей. Напротив, в его эскизах часто встречалась тенденция переодевать одних и тех же персонажей в уже зафиксированных позах в разные костюмы и драпировки, выглядящие достаточно условно. Например, наброски с изображением святого Иеронима для Санта-Мария-дельи-Анджели представляют достаточно однотипные тяжелые драпировки [464] (ил. 40, 41). Прием переодевания персонажей встречался в практике Муциано и в эскизах к росписям Григорианской капеллы, и на modello к станковым работам [465].
Чезаре Неббиа, ученик Муциано, также приучал своих помощников к тому, чтобы править наброски, созданные не с натуры, а из воображения: например, изменил положение ноги на эскизе для Сальваторе Фонтана для росписей в церкви Санта-Мария-Маджоре [466].

Ил. 40. Джироламо Муциано. Сидящий старик в драпировке, опирающийся на правую руку и указывающий на что-то. 1584–1592. Сангина. Лувр, Париж. Inv. 5115. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michèle Bellot.

Ил. 41. Джироламо Муциано. Полуобнаженный сидящий старик, указывающий на что-то. 1584–1592. Сангина. Лувр, Париж. Inv. 5112. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michèle Bellot.
Отсутствие опыта работы с натуры в мастерских Муциано и его соратников было характерно для римской школы позднего Чинквеченто. Однако при Федерико Цуккаро в 1593–1594 годах эта тенденция поменялась. Совместив живопись со своим первым призванием — словесностью, Федерико с успехом занялся педагогической деятельностью и своими сочинениями об искусстве оказал влияние на множество молодых художников Рима. Он занялся также кодификацией художественных правил, которые могли бы преподаваться в Академии. Зарисовки древностей и копирование работ Рафаэля, Микеланджело, Полидоро и Перино, с которых начинал свой путь его старший брат, было уложено в доктрину о Disegno как непреложная формула.
Однако же Федерико опирался не только на практику Таддео, но и на опыт других академий. Так, важен для него оказался приезд в город в 1594 году Аннибале Карраччи, вместе с братьями основавшего Болонскую академию, чья деятельность во многом вдохновила его разделять обязанности между участниками (в Болонье Лодовико Карраччи заведовал школой; Аннибале обучал живописи, в том числе работе с натуры; Агостино преподавал правила перспективы, анатомию, обсуждал с учениками мифологию, историю, христианские сюжеты; учеников приучали к оценке работ друг друга). При Цуккаро в Академии много внимания стало уделяться рисованию с натуры, особенно натюрморту и изучению драпировок, — занятия натурой входили в программу Флорентийской академии, членом которой Федерико стал еще в 1565 году (сам он и до того работал с натуры, следуя методике Федерико Бароччи, осуществляемой в Урбино). Флорентийская академия также способствовала его осознанию публичной дидактической роли академиков [467]. И лекции, и упражнения в натурном рисунке, привнесенные Цуккаро в Академию святого Луки, стали впоследствии основой всей академической практики.
Помимо этого, в Академии Цуккаро были заложены и другие новые принципы. Как мы помним, Федерико, отстраненный папой Григорием XIII от работы в Ватикане из‑за ссоры с мастерами-болонцами, пережил временное изгнание из Рима — и это обстоятельство впоследствии сподвигло его более серьезно, чем когда-либо, отстаивать свободный социальный и интеллектуальный статус художника. Поэтому в Академии одновременно осуществлялось и политическое, и религиозное воспитание. Романо Альберти еще в 1585 году написал трактат «О благородстве живописи», тем самым подчеркнув новый, свободный статус искусства [468].