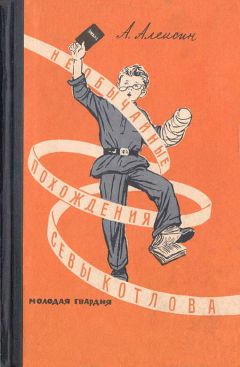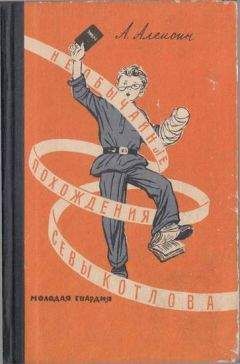Григорий Островский - Захарий Зограф
Эту сентенцию Захарий поставил своего рода эпиграфом к большой композиции «Колесо жизни», написанной им на внешней стене алтарной апсиды, как указано в ктиторской надписи, иждивением хаджи Федора Костооглы. Этот сюжет уже использован Захарием в росписи церкви Троянского монастыря, но там фреска записана, а поскольку у других зографов он, кажется, не встречается, то преображенское «Колесо жизни» представляет особый интерес.
Собственно религиозная проблематика уступает здесь место развернутой аллегории тщетности и суетности земного существования человека, аллегории понятной и доступной любому прихожанину той поры, откровенно дидактичной, но свободной от уныло-назидательного морализаторства.
Вот огромный диск, через который, как через блок, перекинута веревка, с помощью которой крылатые День и Ночь вращают Колесо жизни. В первом наружном круге — возрасты человеческой жизни: семь лет, четырнадцать, двадцать один, тридцать (зенит жизни), сорок восемь, пятьдесят шесть и семьдесят. Каждый рубеж олицетворен человеческой фигурой; если первый — это ребенок, то на последнем седобородый старец сражен безжалостной косой Смерти.
Второй концентрический круг разделен на четыре сектора, обозначающих времена года. Мотив неотвратимо замкнутого вращения перерастает в жизнеутверждающую, чисто возрожденческую тему ценности человеческого труда, осмысленности и красоты работы крестьянина на земле. Под кистью художника возникают голубизна неба, зелень трав и деревьев, золото зреющей нивы, и на этой прекрасной земле — хлебороб на поле, собирающий плоды садовник, и только над стариком нависла зимняя стужа и смертная коса…
Еще кольцо «Двенадцати месяцев» и, наконец, в центре «богатая жена» с пустой чашей в руке — наглядный и осязаемый символ «суетного, лестного и прельстительного мира». Дидактический пафос художника вроде бы достигает здесь апогея, но его стихийно теснит любование художника красотой молодой болгарки в нарядном современном платье с пышными складками, ее крупными зрелыми формами, исполненной монументальности фигурой. Провозглашая тщетность земного бытия, аллегория оказывается пронизанной светом и красками «суетного мира»: розовое, красное, голубое, желтое, терракота со множеством оттенков и полутонов образуют звучную и радостную палитру.
Мажорно и слаженно звучит эта полифония, но в ее оркестровке слышатся и другие ноты.
В левом, северо-западном углу женского притвора, между св. Петкой Тырновской с одной стороны, Кириллом и Мефодием с другой, Захарий пишет автопортрет — уже четвертый в его творчестве.
В чем причина такого постоянного, настойчивого обращения художника к столь специфическому жанру? Ответ не может быть однозначным, поскольку, видимо, было не одно обстоятельство или побуждение.
Прежде всего, следует исключить «симптом Нарцисса» — мотив самолюбования. Да, Захарий честолюбив, но мелочное тщеславие ему чуждо. Облик его на автопортретах исполнен достоинства, но — особенно в Преображенском — далек от идеализации, приукрашивания, тем более щегольства.
В числе главнейших и самых настоятельных побуждений — осознание себя не частицей Рода, Цеха, Сословия, Общины, но индивидуальностью, личностью единственной и неповторной. Не одним из многих зографов, анонимных ремесленников, смиренных изобразителей святых и — в крайнем случае — церковных ктиторов, но Автором, Художником, творческой Личностью нового типа. Утверждению ее высокой общественной ценности и служит автопортрет. «Личная гордость, амбиция и самоощущение, — писал А. Божков, — становятся явными не как беспомощный плач и случайно вырванная фраза из старинных рукописных книг, а как осознанная программа постижения творческих вершин. Четыре раза рисовал себя Захарий Зограф в создаваемой им пестрой галерее. Четыре раза является он среди своих героев — гордый и самоуверенный, решительно преодолевший чувство неполноценности. В Бачковском, Преображенском и Троянском монастырях — трех важнейших этапах его жизни, — как и в автопортрете Национальной художественной галереи, видим одно умное лицо с изящным овалом и утонченными чертами, один ясный взгляд, в котором надежда жить и едва уловимая скорбь, одну маленькую кисть, претворенную в символ его ремесла. В трех автопортретах он „остается стенописцем“. Остается, как будто непогрешимо чувствует, что это вершина и конец одной большой традиции — пережитой и одухотворенной им и вместе с ним, доведенной до своего логического завершения, потому что она насыщена чувствами и мотивами, которые ее убивают. Он переживает эту традицию масштабно и оставляет в ней свой собственный облик, как будто хочет доказать, что болгарская живопись в течение многих веков представлялась и поддерживалась влиятельными людьми, что анонимные мастера, прожившие жизнь в труде и постоянстве во имя народных надежд, имеют свои индивидуальные лица и свои конкретные судьбы» [7, с. 12].
Захарий утверждает ценность и достоинство не только художника вообще, но и художника из Самокова, художника болгарского. Во всех подписях и надписях он повторяет и подчеркивает это с каким-то вызовом и неизменным постоянством.
Наконец, чисто субъективный фактор. Автопортрет для Захария — средство самопознания; более того, он становится средством предельно, безостаточно искреннего самоанализа. С каким-то бесстрашием раскрывает он перед тысячами людей глубины своей души. Многие, но не все, ибо нас не покидает ощущение недосказанной тайны, которая ушла с художником и которую он не поверял даже самым близким. Что-то точило его; в зените славы и благополучия он знал горечь разочарований. При всей кажущейся откровенности с друзьями и открытости треволнениям жизни Захарий оказывается довольно скрытным, замкнутым в себе и своих переживаниях. Все основное — в произведениях художника; в них он рассказал о себе, о том, что думал и чувствовал, — многое, но не все. О том, что утаил, можно лишь догадываться.
Автопортрет в храме Преображенского монастыря примечателен во многих отношениях.
Во-первых, он необычайно мал по размерам: 88 сантиметров в высоту и 27 в ширину. Лаконичная надпись: «Захария X. Зограф. Самоков». Рядом с большими, монументальными изображениями святых он кажется еще меньше, скромнее. Смирение и самоуничижение, что паче гордости?
Во-вторых, Захарий еще более решительно порывает с традицией ктиторской и вообще церковной портретописи. Исчезают даже формальные связи с окружающими росписями, тема предстояния, специфическая официальность, репрезентативность, застылость. В портрет, находящийся в интерьере церкви, художник смело вводит чисто жанровую, бытовую мотивацию: изображает себя не в условном, отвлеченном, а в вполне реальном пространстве, стоящим с кистью в руке, как бы в момент работы, у стола, на котором разложены его инструменты: набор кистей, линейка, циркуль, угольник, стержень для крепления угля.
В-третьих, — и это главное — автохарактеристика художника.
Захарию было тогда уже под сорок — зограф с двадцатилетним опытом, глава семьи, отец трех сыновей. Но изобразил он себя совсем молодым, и лишь небольшие усики напоминают, что перед нами не отрок, но муж. Невысокого роста, хрупкого телосложения, узкоплеч, тонок в кости, стрижен коротко, как говорили, гологлав.
Юным и печальным, углубленным в себя и отстраненным от суеты, очень одиноким, в состоянии упадка духовных и физических сил предстает художник перед зрителем. Более того, при наличии профессиональных атрибутов перед нами не столько зограф, а тем паче славный, преуспевающий, сколько уставший человек, погруженный в раздумья о неотвратимом вращении «колеса жизни»…
Таким Захарий увидел себя, таким запечатлел. Чем же вызван этот тяжелый душевный кризис? Только ли усталостью, одиночеством? (Даже переписка с Неофитом Рильским, служившая ему отдушиной и душевной опорой, в это время прервалась: с 1848-го четыре года Неофит жил на острове Халки в Мраморном море, занимая кафедру церковно-славянского языка в греческой богословской академии.) Или склонностью к меланхолии, пессимизму, личной трагедией, неверием в скорое освобождение Болгарии? Неудовлетворенностью собой, творческим тупиком, несостоившимися мечтами и надеждами, сознанием неосуществленных возможностей, недостижимостью идеала?.. Может быть, ни тем, ни другим; может, здесь нечто иное?
И почему же Преображенский портрет написан так нервно и даже торопливо и небрежно?
«Только за двенадцать лет Захарий Зограф создает почти все свои стенописи, — писал А. Божков. — Календарная информация в этом случае превращается в загадочную формулу — выразительную и вместе с тем мистическую, как известное „Колесо жизни“, написанное им в Преображенском монастыре. Отмеченных лет меньше, чем нужно для того, чтобы перейти из одного возраста в другой. Но он словно спешит состояться как творец перед фатальным концом, спешит пустить это колесо в разверзнутую пасть зверя, спешит потому, что не хочет примириться с полным круговоротом и потому не верит, что созданное им человечество удержит его всегда в зените. Наше искусство не знает другого подобного опережения времени и судьбы — отчаянного и восторженного, фатально напряженного и одновременно с тем предельно плодотворного» [7, с. 11].