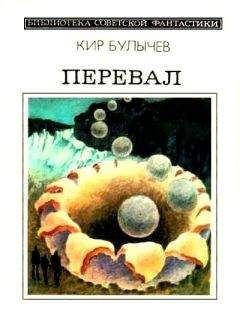Дора Коган - Врубель
С восторгом и нежностью вспоминал Коровин профессора Училища Саврасова — автора нашумевшей картины «Грачи прилетели». Вспоминал, как тот отправлял их весной в Сокольники писать природу и учил добиваться, чтобы в их этюдах было больше чувства, настроения. В пейзаже должна быть история души, он должен отвечать сердечным чувствам, должен быть похож на музыку. Такие качества Коровин видел в пейзажах своего друга Левитана. Нужны картины, которые близки сердцу и передают как бы звуки природы, света, солнца, говорил Коровин.
Было что-то родственное, близкое Врубелю во всем, что он услышал от своего нового приятеля. И ничего удивительного: учитель Коровина — Поленов был учеником Чистякова. Но что-то и настораживало во всепоглощающем интересе к проблемам писания этюдов с натуры, в приверженности к зрительному впечатлению. Особенно насторожился Врубель, когда Коровин с досадой вспомнил преподавателей, которые заставляли их — учеников Училища — рисовать «мертвечину гипсов»…
Врубель еще больше усомнился в значимости и ценности утверждений Коровина, когда тот стал на его глазах писать маленький пейзажный этюд — небрежно, как показалось Врубелю, своего рода скорописью, стараясь, как он выразился, «изловчиться к правде» и передать сумму впечатлений и чувствований… Нет, вечными законами формы здесь не пахло.
Надо сказать, от Коровина не укрылась неудовлетворенность Врубеля его живописными опытами, но он нисколько не обиделся. Ибо, увидя наброски с натуры, этюды своего нового знакомого, был поражен… Самая манера работать, буквально держать в руках карандаш и кисть — какая-то «снайперская», удивительная красота деталей формы выдавали необыкновенный дар… «Опусы» этого художника в самом деле располагали к высоким словам об искусстве. Хотелось думать и говорить о вечных законах прекрасного. Коровин с явным интересом выслушал взволнованные рассказы Врубеля об Академии, о Чистякове. Чувствовалось — он очень любил и чтил учителя. Глубокое уважение, с которым рассказчик отзывался о рисовании гипсов, явное пристрастие к этой «мертвечине» озадачило Коровина. Но, может быть, тогда он впервые задумался о смысле такого рода упражнений, ненавистных ему.
И не под влиянием ли этих разговоров Коровин отправился осенью 1886 года учиться в Академию?.. Не под этим ли влиянием вскоре он, целиком приверженный этюдам, стал утверждать, что этюды для этюдов — «большая скука», что нужно писать этюды для картины и что надо писать тоньше мотив, стиль и задачу. Он заговорил о стиле… В этом смысле Врубель тоже мог заронить искру в его сознании. Врубель рассказывал Коровину тогда о своих работах в Киеве, о реставрации Кирилловской церкви, об иконах для иконостаса, и было видно, что он в душе гордился этими работами. Он был полон тогда поисками какого-то особенного стиля, не имеющего отношения к передаче правды натуры, впечатления от нее заветных целей Коровина. Эта маниакальная увлеченность поисками стиля стала очевидна, когда Врубель начал писать по фотографии портрет покойного сына хозяина имения. Портрет по заказу — разве не ясно, что заказчики мечтали увидеть своего мальчика как можно более похожим, надеялись, что художник сможет показать им его таким, каким он был живым!
А что делал Врубель? Решение портрета непрерывно трансформировалось. И дело было не в том, что заказчиков не удовлетворял ни один вариант. Врубель, казалось, с удовлетворением уничтожал сделанное, — наверное, он так резал себе тело — Коровин с ужасом увидел шрамы на груди художника, по его рассказам, нанесенные в страданиях из-за неразделенной любви. С тем большим испугом он наблюдал теперь процесс работы нового приятеля над заказным портретом мальчика. Врубель с удовлетворением уничтожал сделанное, и при этом каждый новый вариант был вызывающе непохож на фотографический снимок и напоминал больше икону. Стилизовал ли Врубель византийскую и древнерусскую живопись в такого рода пластическом решении, противопоставляя, создаваемый им образ фотографическому, желая утвердить святость покойного ребенка? Стремился ли он создавать канон? Как бы то ни было, умеющий отлично срисовать с фотографии лицо, чтобы оно было похожим, художник упрямо не внимал убеждениям отца, дяди, становился словно глухим и упорно стоял на этом иконописном типе решения… Сколько упрямства! Только тогда, когда все уже потеряли надежду, когда дядя чуть не со слезами на глазах стал его умолять смириться, он быстро, просто и прекрасно сделал то, чего от него хотели.
Но ведь в самом деле странная история? Тем более странная, что и до и после нее Врубель будет с такой неистовостью исповедовать «культ глубокой натуры», писать такие реалистические портреты и автопортреты!
Он снова балансирует между двумя крайностями… От красоты микрокосма, которую художник постигал с такой глубиной, из «мира гармонирующих чудных деталей» расходились широкие пути в мир, в космос и в духовное…
Портрет дочери Васнецова Тани — довольно беглый этюд — поражает не только теплом, человечностью и душевностью, не только точностью, похожестью, но и драматизмом выражения. Особенно косоватые глаза, смотрящие на вас и в то же время не на вас, видящие и невидящие глаза, устремленные в разные стороны и куда-то мимо, ввысь. Потребность и способность особой тонкости, глубины вслушивания, вчувствования видны и в карандашном портрете Аполлинария Васнецова, поражающем необычайной тонкостью, хрупкостью нервного лица.
В октябре 1886 года художник сообщал сестре: «Нанимаю за 30 рублей мастерскую, устроенную Орловским, с комнатой при ней и балконом на Днепр возле церкви Андрея Первозванного с хозяйским отоплением; это с конца ноября (там буду писать „Демона“ и картину Терещенки, которую после долгих и неудачных проб перекомпоновки решил воспроизвести по очень законченному эскизу, сработанному еще в течение прошлой зимы), а покуда Васнецов уступает мне свою мастерскую во Владимирском соборе, где я решил быстро катнуть „По небу полуночи“. Не посчастливится ли ей больше, чем этюду девочки…»
Там, в бесконечности, где бродило его сознание, размыты все границы. И так ли уж резка граница между Добром и Злом… между его Демоном, духом страдающим и скорбным и притом властным и величавым, и между ангелом, несущим спасенную душу? Замысел, вдохновленный стихотворением Лермонтов «Ангел», Врубель носил в себе в ту пору.
«Быстро катнуть»… Какой бодрый тон, какая творческая храбрость! Картина «По небу полуночи» не была создана. В это время другие творческие перспективы, еще более заманчивые, открылись Врубелю: Прахов обещал привлечь его к участию в росписях Владимирского собора и предложил сюжеты для самостоятельной лицевой живописи — «Надгробный плач», «Воскресение», «Вознесение».
Работы для Владимирского собора поставили Врубеля лицом к лицу с одной из самых утопических и возвышенных задач, волнующих его современников. Весь XIX век отмечен страстными неутомимыми поисками утраченного с прогрессом и цивилизацией бога, исканиями высших духовных ценностей. Во второй половине XIX века, с торжеством положительного знания, эти поиски становятся особенно мучительными. Ими были заняты философы, поэты, музыканты, архитекторы и художники на Западе. Эти же искания отметили духовную жизнь русских людей. Достаточно назвать Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева. Новое религиозное зодчество, новая храмовая живопись одушевлялись той же утопией. Этой утопии не чужды были работы, связанные с реставрацией Кирилловской церкви и со строительством Владимирского собора.
Живой потребности в монументальном искусстве, которое представило бы «во плоти» те высшие божественные ценности, обрести которые жаждали люди XIX века, должны были ответить росписи Владимирского собора, обнимающие все основные моменты Священной истории. Над ними уже трудились В. В. Васнецов и Нестеров, Сведомские и Котарбинский. Врубелю было также предложено внести свою лепту в храм.
«Теперь я энергично занят эскизами к Владимирскому собору, — писал он сестре 7 июня 1887 года. — „Надгробный плач“ готов, „Воскресенье“ и „Вознесенье“ почти. Не думай, что это шаблоны, а не чистое творчество… Делаю двойные эскизы: карандашные и акварельные, так что картонов не понадобится, и потому вопрос об участии в работах устроится скоро: думаю к 1-м числам июля его окончательно выяснить и получить небольшой аванс и тогда, двинув работу, двинуться в Харьков. „Демон“ мой за эту весну тоже двинулся. Хотя теперь я его и не работаю, но думаю, что от этого он не страдает и что по завершении соборных работ примусь за него с большей уверенностью и потому ближе к цели».
Опять очень бодрая интонация. Чего стоит это многократно повторяемое боевое «двину»! Правда, быть может, и слишком бодрая, настораживающе бодрая для Врубеля. Что-то чуть-чуть нарочитое ощущается в ней. Так ли уж хорошо ему на самом деле? Во всяком случае — надолго ли?