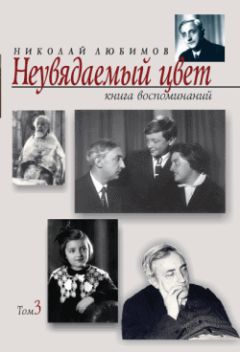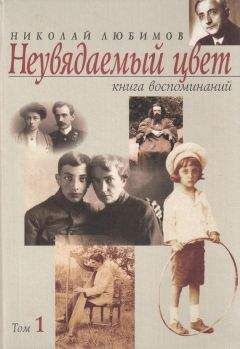Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3
– Какие мастера! Сколько вдохновения, сколько вкуса, сколько величественной простоты!
И добавить от себя:
– И какое разнообразие! Какая многоцветность!
Давидов псалом «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» освободился у Архангельского от ветхозаветной сумрачной непримиримости, претворился в песнь, исполненную тихой радости и безмятежного упования: «…радуйтеся Ему с трепетом»; «Блаженни вси надеющиеся на Нь»; «Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой»; «Господне есть спасение и на людех Твоих благословение Твое». И эти взлетающие в высь и постепенно замирающие в воздухе припевы после каждой фразы: «Аллилуйя, аллилуйя, ал-лилуйя»!.. Сколько в них благодарной нежности, сколько ничем не замутненной хвалы!
А у Чеснокова «Блажен муж…» поет псалмопевец (соло – баритон), выделяя и оттеняя другую тему псалма – отчуждения от «совета нечестивых», стойкого убеждения в том, что путь нечестивых рано или поздно погибнет. И исполняемый хором припев «Аллилуйя» у Чеснокова – это гремящие кимвалы. В финале баритон врывается в бряцанье кимвалов и возносит к небу как бы внезапно, стихийно вырвавшееся у него из души, его собственное «Аллилуйя», хор подхватывает, и снова торжествующие forte кимвалов: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!»
А у Веделя «аллилуйя» в «Блажен муж» – это острый просверк молнийных изломов, разрешающийся в конце ликующим громовым грохотаньем.
А у Рахманинова тот же «Блажен муж» – это нежащая слух «Сионская песнь», «песнь Господня», то есть песнь во славу Богу-Саваофу, льющаяся под все усиливающийся в своем звучании рокот гуслей. Слушая ее, понимаешь вавилонян, настойчиво требовавших от плененных иудеев, чтобы те пели им «от песней Сионских».
«Богородице Дево, радуйся…» священника Зинченко – глубокий молитвенный вздох. Звуки этого напева своею воздушностью, своею небесностью напоминают те краски, какими Нестеров написал Божью Матерь в иконостасах верхних приделов в киевском Владимирском соборе.
Природа, а с нею и душа человеческая, еще шире – Мировая Душа, сосредоточенно-благоговейно величает Божью Матерь: «Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою!» Это как бы внутренний голос Природы и Человека. Но вот зашелестели травы, закивали венчиками цветы, затрепетали листья, заколыхались ветви, закачались верхушки деревьев, налетел порыв молитвенного восторга, – «яко Спаса родила еси душ наших», – налетел и уносится в даль, и снова благоговейная сосредоточенность, лишь трепещут листья да покачиваются и подумывают макушки деревьев на самом краю леса.
Это – «Богородице» – Рахманинова.
Иногда за торжественной всенощной хор Соболева пел киевское «От юности моея…». Не берусь утверждать решительно, но думаю, что первоначально это предназначалось для мужского хора. Киевское «От юности…» разумеется, может петь и обычный смешанный хор. Но чутье и вкус подсказали Николаю Константиновичу, что это должна петь женская часть хора, и у него с киевской соловьиной многоладовой певучестью заливались сопрано на строгом фоне альтов, заливались то покаянно, но без надрыва, то с мольбою, но не исступленной: «От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!»
И совсем безгневно, а лишь с не подлежащей сомнению уверенностью в конечной гибели зла звучало: «Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Господа, – яко трава бо огнем, будете иссохше».
У священника Старорусского в финале «От юности…» взлетает forte, от которого по спине бегают мурашки, но которое органически не связано с текстом, не вытекает из него. «Соприкосновение мирам иным», полет души выспрь вовсе не обязательно передавать через повышение тона. А исполняя киевское «От юности…», певцы, направляемые чудодейственной рукой своего хилого, слабого – в чем душа – дирижера, рисовали голосами преображение человеческой души: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством священнотайне».
И не забыть мне этот хор хотя бы из-за тихоструйного, прозрачного «Великого славословия» Архангельского со страстно-покаянным квартетом «Яко согреших Тебе», приобретающим по контрасту острую выразительность, обличающим в Архангельском темперамент, который он умел обуздывать, который не прорывается у него там, где не надо, попусту, зря. Один этот квартет, не говоря уже о таких вещах, как концерт «Помышляю день страшный», показывает, что Архангельский – не однотонный элегик.
И не забыть мне этот хор из-за безымянного «Трисвятого», которое Соболев вывез из Ярославля и сам окрестил его «Ярославским». Этим «Святый Боже…», которое поется за литургией, он угодил даже привередливому патриарху Алексию. Какой безвестный гений сочинил его? Кто он был – захудалый попик из бедного прихода, забывавший за звукотворчеством про свой неприглядный и скудный быт, или окруженный враждебным непониманием братии монашек – сродни иеродьякону Николаю, воспетому Чеховым в рассказе «Святою ночью», который я, как и «Архиерея», как и «Студента», всегда читаю под Пасху? Бог весть… Только у нас на Руси умеют так проворно засыпать прахом забвения имена чудотворцев слова, кисти, резца и звука… Вот зарыдали тенора, вот плачут контральто и сопрано, вот проникновенно молятся Богу басы, потом все голоса сливаются в единое: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!..»
А как соболевский хор пел Веделя! Громоносный Ведель внес в православное пение – в общем минорное, задумчивое – свою, веделевскую ноту, мажорную и цветистую. Откуда сие? Была ли она в его, судя по фамилии, не чисторусской крови? Питали ли ее «кимвалы восклицания», которых он с детства наслушался в Киеве? Питал ли ее распев Киево-Печерской лавры? Вернее всего, действовало здесь и то и другое.
Явление Веделя в православной церковной музыке подобно явлению Пастернака в русской христианской поэзии. В русскую христианскую поэзию, тоже в общем созерцательно-тихую, влилась огненная струя – это были стихи Пастернака на евангельские сюжеты: вместо арф и скрипок – трубная медь; вместо жемчужно-серебристой гаммы – яркие пятна и мазки; вместо словобоязни, внушаемой возвышенностью темы, вместо сознательного самоограничения, вместо стремления держаться в границах одного, высокого, словесного ряда – дерзновение, сопрягающее идеи любой отдаленности; вместо скованности фантазии, не решающейся выйти за пределы евангельской сюжетной канвы, – вольный, ширококрылый полет воображения, сливающего морозное дыхание нашего русского севера с жарким дыханьем вифлеемской ночи, на которую мы смотрим сквозь обледенелое окно русской избы, и этим подчеркивающее всемирное и вневременное значение происходящих событий.
«Покаяние» Веделя – это прежде всего вопль души, измученной, изнемогшей от собственной скверны. В «Покаянии» Веделя душа человека не столько плачется, сколько именно вопиет к Богу.
Слушаю на Пасху «Плотию уснув…» Веделя. Да что же это такое? Горы, что ли, сдвинулись с места? Моря и океаны восплескались до облак?..
«Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть; Пасха нетления – мира спасение».
Вспомним «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…» Соколова или Строкина: это переложенный на музыку монолог старца Симеона, это как бы его ария под то тихий, то громкий аккомпанимент хора. А у Веделя не один старец Симеон, а весь древний мир приветствует сошедшего на землю Мессию».
И наконец – вершина Веделя: «На реках Вавилонских…» (Псалом 136). Вся его гениальность выступает при сравнении его «На реках» с «На реках» Крупицкого или Григорьева. У Крупицкого это притушенная и приглушенная печальная мелодия с таким же заунывным и однотонным припевом «Аллилуйя». Это хорошая музыка, но только написанная на какой-то другой текст. Она производит впечатление, только если не вслушиваться в слова. А у Веделя это безостановочное слияние текста с напевом, – музыка послушно следует за всеми излучинами и повторами мысли псалма, за всеми сменами чувств и настроений.
Сначала идет густая волна скорби: «На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом…» Это «плакахом» несколько раз повторяется, звуча тихим плачем: это плач матерей, у которых погибли дети, это сдержанный плач мужей, разлученных с женами. «На вербиих… обесихом органы наша» (на вербах повесили мы арфы наши), и от одного этого сознания скорбь пленников достигает нечеловеческого предела, чаша ее полна до краев, а затем, как всякая человеческая скорбь, она мало-помалу притупляется. Но вот вавилоняне обращаются к пленникам с требованием, исполненным холодного в своей тщеславной надменности любопытства: «Воспойте нам от песней Сионских…» И в музыке слышится горестное недоумение: «Како воспоем песнь Господню на земли чужде è й?..» Повторяется эта фраза уже не с изумлением, а гневно. Требование победителей всколыхнуло у побежденных тоску по родине, тоску неизбывную, тоску надрывную, и из тоски рождается торжественная клятва: «Аще забуду тебе, Иерусалиме…» (И тут каждый раз у меня непроизвольно всплывает в памяти захлебывающаяся скороговорка обезумевшего от горя штабс-капитана Снегирева, у которого умирает любимый сын Илюша: «Аще забуду тебе, Иерусалиме…»). А из клятвы вырастает тема ненависти к врагу, ветхозаветная тема мести (око за око): «Дщи вавилоня окаянная!..» И в заключительной, многократно повторяющейся фразе: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень, о камень разбиет младенцы твоя», слышится жажда крови, предвкушение мести, упоение воображаемой местью, хруст костей и торжествующий, злорадный хохот, к самому-самому концу вновь разливающийся волною скорби, смехом этим не утоленной.