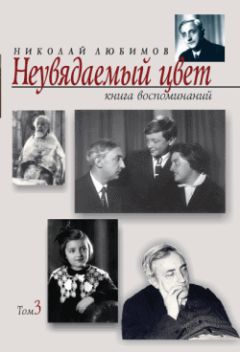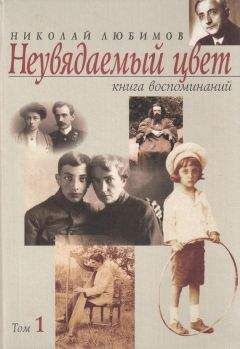Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3
Ясную глубину молитвословного лирика Архангельского – одного из «великих властителей гармонии», как назвал Лесков, по свидетельству его сына, русских церковных композиторов, – раскрыл мне, уже взрослому, киевский дирижер Гайдай, но пробудил во мне любовь к нему опять-таки захолустный Перемышль, точнее – хор Георгиевской церкви, а еще точнее – хорик, потому что, когда в 1925 году я впервые услышал на Пасху «Воскресение Христово видевше…» Архангельского, наш город разжаловали в село, большинство служащих, спасаясь от безработицы, разъехалось, и хоры наши поредели. «Воскресение христово…» Архангельского певчие пели в Георгиевской церкви начиная со Светлой заутрени и кончая последней перед Вознесением субботней всенощной, за каждой всенощной – дважды. Весной 1927 года в одну из таких суббот Георгий Авксентьевич отправился с нашим классом на геологическую экскурсию. Он ехал на телеге, а мы туда и обратно отшагали в общей сложности верст около двадцати. Но как же я мог пропустить хоть одну всенощную с пасхальными песнопениями и с «Воскресением» Архангельского?.. Вымывшись и наскоро пообедав, я уже «веселыми ногами», как поется опять-таки на Пасху, побежал в Георгиевскую церковь, благо от нашего дома было до нее рукой подать. Отстоял всенощную и, конечно, сторицей был вознагражден за то, что не поддался соблазну улечься с книжкой после «путного шествия». Да и немудрено. С какой светоносной силой надо любить Христа, чтобы так воспеть праздников праздник, как воспел его Архангельский! Эпиграфом к его музыке можно было бы поставить слова предпасхальной стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Восьмиголосный хорик Георгиевской церкви, которым управлял бывший дьякон Михаил Николаевич Святополков, умевший держать строй, предпочитавший пение негромкое, умилительно-молитвенное, что соответствовало всему складу его незлобивой души, так пел «Воскресение Христово видевше…», с таким настроением, с таким строгим соблюдением всех его переходов и оттенков, что с той поры Архангельский стал моим «вечным спутником» в музыке. А что такое оттенки в православном церковном пении, об этом пишет в «Страницах из моей жизни» Шаляпин: «…мне кажется, что за границей нет таких хоров, как в России, – я объясняю это тем, что у нас хористы начинают петь с детства по церквам и поют с такими исключительными оригинальными нюансами, каких требует наша церковная музыка». И еще: «…от итальянцев нельзя требовать того, что дают русские хористы, большинство которых с детства воспитывается на церковной музыке».
Теперь – увы! – давно уже не воспитывается, и многолетняя затяжная война с церковным пением и церковными хористами – война и позиционная и маневренная, с солидно поставленной разведывательной службой, – не прошла даром для русской певческой культуры. У дерева подсечены корни, и оно, некогда раскидистое, ветвистое, все унизанное сочными и пахучими листьями, сохнет у нас на глазах.
Я – не певец, но, как слушатель-любитель, я сызмала воспитывался на церковной музыке. И развившаяся на ней музыкальная моя память отчетливо различает звук каждого из тех хоров, какие мне приходилось слушать подолгу.
Стоит мне чуть-чуть напрячь ее – и вот уже я слышу сапфирами и жемчугами брызжущий хор Виктора Степановича Комарова в Богоявленском патриаршем соборе. Еще небольшое усилие – и музыкальному моему воображению представляются чесноковские воскресные тропари в исполнении комаровского хора, рисуется радость мироносиц, со слезами притекших ко гробу Господню и узнавших от ангела, что Бог «воскре è се от гроба», – радость трепетную, еще боящуюся поверить в самое себя. А когда – в конце всенощной, при последнем, прощальном выходе из алтаря патриарха в простой рясе и белом кукуле, с торжественной сосредоточенностью благословлявшего молящихся, – хор пел греческое многолетие, я думал: «Вот бы сейчас, сию минуту и умереть! Вот оно, высшее счастье! Иного я себе не представляю, иного мне и не надо!»
В хоре под управлением Комарова не улавливалось самомалейшего оперного при è звука. Слушая его, мы проникались красотою певческого богослужения.
В июне 68-го года, в субботу, еду в Патриарший собор ко всенощной. По дороге от метро встречаю одного из теноров комаровского хора, так называемого «Бороду». Разговорились.
Я ему:
– Ваш хор сейчас лучший в Москве.
– Ну еще бы! Комаров, надо отдать ему справедливость, старается. А почему он старается? Потому что ему под восемьдесят, и ему хочется попасть не туда (пальцем вниз), а во-он туда (пальцем вверх). Вниз попадешь – это тебе не отделение милиции: подержат и выпустят. Туда уж если попадешь – стало быть, навсегда. И вон туда уж если попадешь – стало быть, навсегда. Вот его и спросят после смерти: «Ты кем был?» – «Доктором-гомеопатом». – «Гомеопаты все шарлатаны. А еще кем?» – «Регентом». – «Регентом? Ну, это дело другого рода. А у тебя тут никого знакомых нет?» – «Данилин (знаменитый московский регент) должен меня помнить». – «Данилин? Как же, как же! Он у нас, наверху, Данилин! Поди-ка сюда! Ты его знаешь?» – «Как же не знать! Это регент Комаров, с детства церковное пение любил, мальчиком в Кремле, в Успенском соборе пел. Регент настоящий». – «Ну, коли так, иди к нам, в царство небесное».
Я слышу округлый, до краев наполненный живительною музыкальной влагой звук того хора, что под управлением Михаила Петровича Гайдая пел в Киевском Владимирском митрополичьем соборе.
Я слышу то рыдающие, то ликующие «воскликновения» киево-печерского распева.
Я слышу пасхальным перезвоном колоколов звучавший хор под управлением Германа Николаевича Агафоникова, который дирижировал сначала в Московском Преображенском митрополичьем соборе на Преображенской площади, а потом в храме Иоанна Предтечи на Пресне.
Я слышу сложное в своей кажущейся простоте, в самую-самую глубь души западавшее, подлинно монастырское пение мужского вольнонаемного хора под управлением Владимира Федоровича Лебедева в Троице-Сергиевой Лавре, и хор Николая Константиновича Соболева в московском храме Воскресения Словущего, что в Филипповском переулке, – хор, облекавший истовую молитву в безукоризненно отграненную форму.
А моей зрительной памяти отрадно бывает воскресить наружность и повадку разных церковных дирижеров. Я вижу въяве вдохновенное изящество и артистическую выразительность движений Гайдая. Я вижу сухого, совершенно лысого старика с выцветшими глазами, как будто бы вяло, безучастно, однообразно, не заглядывая в партитуру, махавшего правой рукой, меж тем как управляемый им таким образом хор у «Николы в Хамовниках» пел с безошибочной стройностью, на гребне не знающих спада молитвенных волн, – весь жар своей музыкальной души дирижер Александров изливал на спевках. Или стремительную, грозную и властную мощь, какую внезапно обретали худые, нервные руки низкорослого Соболева. Или выгиб спины напружившегося словно перед решительным прыжком Комарова, его руки, охватывавшие, обнимавшие звуковые просторы. Или моего друга – Германа Николаевича Агафони-кова, напоминавшего пасхальную свечечку, ровно и празднично-ярко горящую перед иконой; то неизменно довольное выражение, с каким уже входил, почти вбегал в храм этот ростом маленький, но в своем деле удаленький, всегда румяный, всегда веселый, всегда аккуратно одетый, аккуратно подстриженный, чистенько выбритый человек с быстрыми движениями и быстрой речью – вятской окающей невнятной скороговоркой, – вбегал, сияя ласковыми глазами и предвкушая наслаждение стать за аналой и взметнуть по мановению своих легких и гибких рук хвалу Отцу Небесному, такую же восторженную, как его младенчески доверчивая и чистая душа. Дирижерское искусство Агафонникова долго еще потом служило прихожанам – любителям церковного пения мерилом в суждениях об искусстве тех, кто управлял хором в храме Иоанна Предтечи после него. Когда что-нибудь новым регентам удавалось, бывшие пекари и столяры в изумленном восхищении покачивали головами и перешептывались:
– Как при покойнике Германе!
Или Алексея Семеновича Осипова, с шаркающей походкой и лицом столоначальника, на котором прежде всего останавливал внимание нос – этакое диковинное сооружение с пристройками, вышками и боковушками. Тишайший Алексей Семенович под скромной и неказистой внешностью таил дар остроумца. Однажды настоятель храма «Николы в Хамовниках», где дирижировал хором Осипов, предложил ему что-то экспромтом спеть. Осипов отказался на том как будто бы достаточном основании, что у него нет под руками нот. Настоятеля это не убедило. «А вы – без нот», – сказал он. «Без нот, батюшка, петухи поют», – без единой смешинки в глазах отрезал Алексей Семенович. Самое же главное, этот воспитанник санкт-петербургской консерватории и санкт-петербургской придворной певческой капеллы, ученик Римского-Корсакова, обладал истинным церковным музыкальным даром, а также безупречным вкусом в выборе и подборе песнопений. Дирижировал он с таким умоляющим видом и умоляющими жестами, точно покорнейше просил певцов петь как можно лучше. Как дедушка внучкам, он приносил певицам конфетки, а в день памяти жен-мироносиц оделял их плитками шоколаду. При виде его на лицах певцов мгновенно появлялась свободная от угодливости, приветливая и заботливая улыбка, с разных сторон тянулись руки, чтобы помочь старику взойти на клирос, помочь ему раздеться. Певчие – народ капризный, обидчивый, самолюбивый. Они часто не хранят, что имеют, и плачут, лишь потерявши. Такой дружной, такой почтительно-нежной любви, какой пользовался у певцов дирижер Осипов, я не замечал ни в одном хору. Все эти перстом Божиим отмеченные люди – каждый по-своему – несказанно дороги мне, со всеми особенностями их дарований, со всеми чертами их внешности, у иных – величавыми, а кое у кого – смешными, но именно в силу этой смешноватой невзрачности по-особенному трогательными, по-особенному милыми.