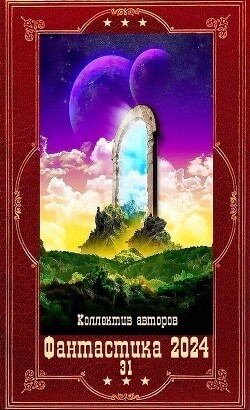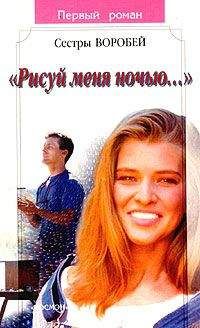От Рафаэля до Кавалера д’Арпино. Устройство римских живописных мастерских XVI века - Лубникова Мария Владимировна
Рисунки и фрески Перино 1540‑х годов демонстрируют застывшую выразительность манеры all’antica, которая в мастерской Рафаэля особенно была характерна для монохромных фресок Полидоро [240]. Эта параллель может свидетельствовать, что мастер не просто сохранял связь с традициями мастерской, но внимательно изучал фасадные росписи своего бывшего соратника, Полидоро, тем самым поддерживая преемственность манеры.
Одновременно с этой верностью традиции Перино, как и ранее, продолжал подстраивать свой изобразительный язык под творчество Микеланджело — и последний, видимо, видел и ценил это, хотя и не мог, в силу особенностей темперамента, его к себе приблизить. Клаудио Толомеи в письме к Аполлонио Филерете из Рима около 1540 года упоминал, что Перино не решается даже сравнивать себя с Микеланджело [241] (очевидно, он считал, что сравнение с божественным гением будет в любом случае не в его пользу). Но творчество мастерской говорит само за себя: под влиянием Буонарроти создавались и росписи, и художественная мебель. Микеланджело, в свою очередь, откликался в своем стиле на интерпретации своей же пластики в творчестве Перино, Джованни да Удине и Пармиджанино и внимательно следил за карьерой Перино. Именно Микеланджело предложил нанять Перино для того, чтобы оформить лепниной и росписью потолок над своей живописью в зале Паолина в Ватикане. Вероятно, знал и одобрял он также, что именно Перино предложили дополнить шпалерой основание его «Страшного суда» около 1542 года. При этом, конечно, сыграло роль и то, что эта так и не вытканная шпалера должна была оказаться в Сикстинской капелле в одном ряду со шпалерами школы Рафаэля, о которых говорилось выше. Позднее похожие фигуры использовал в своих работах Джироламо Сичоланте. Только после смерти Перино, в 1550‑х один из его учеников, предположительно декоратор Пьетро Венале, дописал хранившееся в Ватикане большое живописное modello (холст, темпера; теперь в галерее Спада, Рим), зеркально повторив рисунок Перино [242]. Это говорит о том, что интерес к наследию мастера со стороны заказчиков сохранился и после его смерти — и он оставил после себя школу, художников, способных подхватить его дело и построить собственную карьеру. Особенно это касается Даниеле да Вольтерра и Просперо Фонтана.
Кажется, критическая оценка Вазари методов мастерской Перино напрямую связана со стремлением прославить Микеланджело. Не до конца будучи знакомым с устройством студий Рафаэля и его соратников, Вазари навсегда оставался, как заметил П. Джоаннайдс, «узником собственной идеологии» и не мог трезво оценить преимущества этого типа работы [243]. Думается, что на самом деле Перино предпочитал сам заниматься рисунками и перепоручал живопись ассистентам не потому, что не мог один справиться с объемом работы, но поскольку сознательно предпочитал такой тип разделения задач: ранее он видел его эффективность в мастерской Рафаэля. Однако, не обладая педагогическим даром Санти, он в гораздо меньшей мере полагался на творческие силы ассистентов во время работы над эскизами.
Методы организации живописной мастерской, выбранные Рафаэлем, пережили его и оказались продолжены в работе его ближайшего окружения, а затем и их последователей, и в конце концов стали прообразом величайших художественных объединений конца XVI и XVII веков: Карраччи, Рубенса, Бернини, Пьетро да Кортона. Но, как уже понятно из замечаний Вазари, это был далеко не единственно возможный в то время подход к устройству мастерской в Риме.
Глава 3. Методы работы Микеланджело
Заняв привилегированную позицию при крупнейших заказчиках своего времени, Микеланджело Буонарроти, как и Рафаэль, стал законодателем новых принципов совместной работы живописцев. Но Микеланджело как творческая индивидуальность, как художник и как человек, взаимодействовавший с окружающим его миром, принципиально отличался от Рафаэля.
Особенности темперамента
Рафаэль — радостный, открытый, спокойно и умело решающий все конфликты, умел организовать свою команду и работать в ней. Микеланджело в первую очередь всегда оставался скульптором и предпочитал, как скульптор, работать в одиночку. Его талант требовал «размышлений, уединения и покоя, а не мысленных блужданий» [244]. Одиночеству способствовал и конфликтный характер, провоцирующий ссоры (в одной из таких ссор флорентийский мастер Пьетро Торриджано сломал Микеланджело нос) [245]. Если Рафаэль с уважением и интересом относился к другим талантливым художникам, то Микеланджело был переполнен завистью и ревностью. Постоянные проблемы с коллегами выражались в нападках на Леонардо, пренебрежительном отношении к Рафаэлю. И потому Микеланджело трудно было встраиваться в ситуацию мастерской. Сам его метод работы не предполагал появление учеников, был слишком личностным.
Показательно, что оба мастера, Рафаэль и Микеланджело, связаны с мастерской Верроккьо: Рафаэль через Перуджино, Микеланджело через Гирландайо. Оба мастера, следуя традициям XV века, ставили себе задачу достичь универсальности в искусстве и отводили особую роль рисунку в практике своих мастерских. Однако же Микеланджело мало участвовал в совместной работе. Рафаэль создал в своем искусстве гармоничный синтетический язык. Микеланджело был свойственен совершенно иной язык: язык драмы и контрастов.
Следует понимать, что здесь мы имеем дело не только с двумя разными типами личности. Особенность культуры Возрождения в целом состояла в появлении ярких индивидуальностей. Но соперничество с Рафаэлем создавало для Микеланджело дополнительные трудности: ему сложно было создавать мастерскую, поскольку он не желал иметь ничего общего с системой работы конкурента, даже если подходы того и казались ему удачными.
Соратник Буонарроти Себастьяно дель Пьомбо в своем первом известном письме к нему от 2 июля 1518 года презрительно говорил о Рафаэле как о «главе синагоги» [246]. Такой взгляд кажется довольно неожиданным — учитывая, что работе мастерской урбинца в расцвете ее творческих сил и славы хотели подражать большинство художников Рима тех лет. Впрочем, выражение это можно трактовать по-разному. Скажем, Дж. Шерман склонен считать, что оно лишено грубой окраски. По его мнению, Себастьяно пишет о Рафаэле как о лидере другой команды, которая противостоит «конгрегации» Микеланджело, подобно тому «как профессор Принстонского университета отзывался бы о преподавателе Гарварда» [247].
С другой стороны, изучение соревнования между Рафаэлем и Микеланджело, речь о котором пойдет далее, дает понять, что отношения между ними были в самом деле враждебными. В любом случае система работы Микеланджело с его соратниками представляла собой нечто принципиально противоположное той модели, которая была описана в предыдущей главе. Рафаэль создал систему обучения, связанную со множеством способов упражняться в мастерстве и совершенствоваться. Микеланджело полагал основой творчества божественный дар и культивировал индивидуализм.
Уровень живописи мастерской зачастую соотноси́м с уровнем мастера, что ставит перед искусствоведами вопрос, кто именно автор произведения. Однако в случае с работами соратников Микеланджело ситуация несколько иная. Трудно поспорить, что при сопоставлении его рисунков с работами так называемых «микеланджесков» становится очевидно, что это явления очень разного порядка. Качество рисунков Микеланджело существенно отличается от работ тех, кого принято называть его последователями. У него не было мастерской в принятом смысле этого слова.