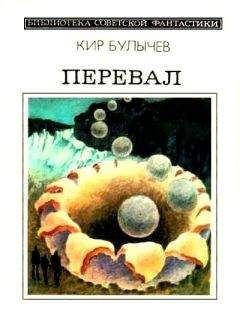Дора Коган - Врубель
Из Киева пришлю тебе фотографии с моих кирилловских работ и с какого-нибудь этюда».
Письмо к Савинскому поразительно поистине патетическим утверждением связи творчества с родной почвой. С афористической краткостью, емкостью и красотой формулирует Врубель эти мысли, заключая, что родная национальная форма — «носительница души, которая тебе одному откроется и расскажет тебе твою…» — мысль, кстати, по всей своей природе близкая Мусоргскому. И здесь же: «забыть, что ты художник и обрадоваться тому, что ты, прежде всего, человек». Нечего говорить, что искусство в этом «постулате» целиком растворяется в жизни, подчиняется ей. Какое человеческое достоинство, какое ощущение ценности человеческой личности просвечивает в этих строках! Поистине ренессансные чувства. И при этом ни грана индивидуализма.
Кстати, эти «постулаты» Врубеля тоже напоминают о Мусоргском, о той простой речи к людям, которой добивался композитор в своей музыке, — от души к душе. Такая же душевная обнаженность, такая же человечность — у Врубеля. Не случайно о Мусоргском, о его женских образах отчасти напоминает и сама Богоматерь — внутреннее настроение, состояние ее образа.
В письме к сестре Врубель раскрывает и другие, более интимные причины его желания поскорее покинуть Венецию и отправиться в Киев. «…Жду не дождусь конца моей работы, чтобы вернуться. Материалу, и живого, гибель и у нас. А почему особенно хочу вернуться? Это дело душевное и при свидании летом тебе его объясню. И то я тебе два раза намекнул, а другим и этого не делал. Буду летом в Киеве и побываю в Харькове. Прощай, дорогая. Крепко целую тебя. Главное, будь здорова. Горячо любящий тебя брат Миша. Кланяйся, если кого увидишь из Валуевых».
«Дело душевное»… Все изящные рисунки пером, дошедшие до нас от этой поездки, — кроки из писем, которые Врубель посылал Эмилии Львовне. Сами письма не сохранились, и эти вырезанные из них наброски много утратили без тех живых слов, мыслей и наблюдений, без живой речи, в контексте которой они появились на свет; но они дают возможность как-то судить об отношениях художника с Венецией и вместе с тем чувствовать, как неотвязно стоял с ним рядом его главный адресат, как постоянно он пребывал в состоянии интимной беседы с ним. В одном из очередных писем Эмилии Львовне Врубель нарисовал памятник кондотьеру Калеони, исполненный скульптором Верроккьо и, видимо, поразивший его. Можно мысленно дополнить обрывки текста, сохранившиеся на обратной стороне письма: «Но если так пойдет, как пошло, то кончу в 2 недели, 6 недель на остальные три и к 15 апреля конец. И в Киеве до начала о… осени». Сбоку, с левой стороны, сохранилось: «Лишь бы касаться до…»
Не было ничего удивительного, что икона Богоматери оказалась самой удачной. В остальных трех иконах — Христа, св. Афанасия и св. Кирилла — он также вдохновлялся живописью венецианцев Беллини, Карпаччо, Чима де Канельяно, их — созданиями. Он стремился наследовать их красочную чувственность в воплощении идеальных образов, впитать в себя венецианскую праздничность красок, жаждал наполнить абстрактную форму, иератически застывшие «оболочки» фигур плотью и кровью, соединив мистику и аскезу византинизма с жизненной полнотой ренессансных образов. Но нельзя сказать, что это ему удалось. Во что преобразился здесь жесткий, но напоенный страстью контур византийских изображений, в котором запечатлелись экстатический жар философских размышлений художника о боге и мире, его страстная жажда проникнуть в потустороннее, его способность «переступить черту»? Во что переплавилась особенная мозаичная форма и калейдоскопическая игра цвета мозаик, их особенная «нематериальная» материя! Так же немного в этих иконах от образов ренессансных мастеров. Приземленный колорит, прозаическая раскраска, сладостная благостность, господствующие в этих произведениях, выдают рассудочное, приземленное отношение к религиозным образам человека положительного, «позитивного» сознания.
Еле слышное горячее дыхание, дуновение жара, экстаза византийских образов чувствуется только в Богоматери, в ее спекшихся губах, в выражении ее лица, может быть, в чеканном силуэте ее фигуры. В ней есть одновременно что-то и от благородной простоты беллиниевской мадонны. Но если говорить о религии, то и здесь торжествует прозаический дух человека XIX века.
В письмах Савинскому и сестре читается состояние нервного подъема, страстное, нетерпеливое желание возвращения на родину. Прочь из этой каменной сказки, из этого города, похожего на декорацию, где по пальцам можно было бы насчитать что-то похожее на деревья или кусты! Всей душой он стремился в Киев — «там чудная наша весна». И это нетерпение, охватившее все существо Врубеля в последние недели пребывания в Венеции, вызвано, конечно, не только творческими обстоятельствами.
Да, Врубель не кривил душой, когда писал Савинскому, что «крылья — это родная почва». Он и позже будет это повторять. Но было бы слепотой вычитывать и в этих словах лишь художнический патриотизм. Здесь, в отдалении, в работе над иконой Богоматери его чувство очистилось, как бы окончательно откристаллизовалось. Он весь в порыве, в состоянии внутреннего напряжения, возвышенного романтического подъема, устремленности за пределы зримого, данного, обыденного. Ведь он был истинный романтик и как романтик воспринимал и переживал любовь. По-видимому, именно тогда в его сознании как бы проскользнул, прошелестел любимый с юности образ, связанный с полетом, с небом, явно навеянный строкой стихотворения Лермонтова: «По небу полуночи ангел летел». В рождении этого замысла, возможно, было повинно и искусство Тинторетто. Разорванное пространство в его композициях, разверзающиеся небеса, странные, невероятные виражи его героев в «Чуде св. Марка» в Академии, влекущее далекое небо во «Введении Марии во храм» в церкви Сайта Мария дель Орто и его «Распятие» и «Несение креста» в Скуола ди сан Рокко — все это символизировало резкий отрыв от земли и не могло не отложиться в памяти художника. Жесткими, резкими, прямыми штрихами, параллельными и сухими, в рисунке передано движение парения. Штрих художника здесь обладает характером своего рода силовых линий, траекторий полета.
Чувство бесконечности, устремленность в бесконечное, воспетые всеми романтиками, становящиеся «второй натурой» Врубеля… С этим образом в душе, с этим чувством он возвращается в Киев.
Его иконы, ради которых была разлука, которые он вез с собой, по общему и его собственному мнению удавшиеся ему, воплощение спорящегося дела, спорящейся работы, придали его настроению какую-то особенную мажорность. Он возвращался в Киев удовлетворенный. Его ждала высокая оценка его венецианских трудов. Вскоре они удостоятся и столь ожидаемой родными и, что греха таить, им самим похвалы в прессе.
13 августа 1885 года отец писал Анюте из Харькова: «…На другой день твоего выезда получил телеграмму от Миши, а вчера от него же получил письмо. Главное, что образа, о которых пишется в „Киевлянине“, его, но только они не копии, как указано в корреспонденции, а собственные произведения Миши, только в стиле XII столетия. Итак, мы имели уже утешение читать о живописи Миши похвалы в газетах. Дай бог, чтобы похвалы эти с каждым годом росли и росли…»
По поводу этих икон приехавший в Киев для работы во Владимирском соборе Нестеров писал несколько позже родным: «В воскресенье был я в Кирилловском монастыре 12 века. Его реставрировал 3–4 года Прахов. Там между другими художниками есть работы Врубеля — 4 образа в иконостасе. Писал он их в Венеции, под впечатлением старинных мастеров и приложил к этому свой удивительный талант и вышло нечто, от чего могут глаза разгореться. Особенно хороша… икона Богоматери… не говоря уже про то, что она необыкновенно оригинально взята, симпатична, но главное — эта чудная строгая гармония линий и красок…»
Думается, что Нестеров выразил здесь общее мнение, сложившееся в художественной среде, окружавшей Врубеля.
И вдруг — крах… Что произошло в Киеве? Как он был встречен? Только внезапный, непредвиденный отъезд в Одессу и тональность письма Анюте оттуда позволяют что-то угадывать, да судьба его венецианских писем главному киевскому адресату — Праховой. Ради сохранения и увековечения его эпистолярной графики в альбомчиках она разрезала и уничтожила все письма. Ведь поднялась рука! Эта рука — бестрепетная, безжалостная рука человека, перерезающего нити связи. Впрочем, в оправдание адресату можем заметить, что, может быть, и не было дано Врубелю никаких обещаний, может быть, у него и не было достаточных оснований для каких-нибудь серьезных упований… Когда он понимал, что такое достаточные основания! Когда он опирался на них в своих стремлениях, в своих надеждах!
Единственное, что он оказался способным сделать в ту пору жестокого разочарования и что так было естественно для его натуры, — покинуть Киев, разрушить все мосты, переменить все…