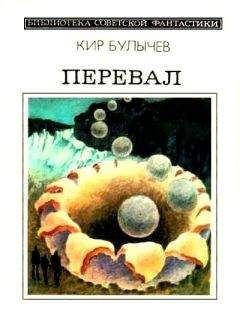Дора Коган - Врубель
Почти детский по наивной доверчивости и незащищенности тон, бесконечно трогающий, трогательный, если учесть, что это письмо написано двадцативосьмилетним мужчиной…
Его чувство к этой женщине делало его слепым, но, может быть, и особенно зрячим… Понять можно только в любви… Кто еще среди знавших Прахову видел ее такой, какой ее запечатлел Врубель в карандашном портрете? Исполненный мягкой женственности, нежности облик. Как мила она здесь художнику, в этом рисунке, отмеченном лирико-поэтической интерпретацией образа!
Ее фотография тех лет как бы подтверждает правоту Врубеля. Исполненное серьезности и даже кротости выражение лица, поднятые к небу глаза — светлые, слишком светлые глаза. Почти святая. Только всерьез ли это выражение? Не лицедействует ли она? Кстати, не по просьбе ли Врубеля она сфотографировалась с таким выражением и в такой позе? Скоро эта фотография так ему пригодится!
Надо представить себе, с какой бережностью укладывал он этот снимок в чемодан вместе с вещами, готовясь к отъезду в Венецию. Родные с нескрываемым удивлением наблюдали изменившийся облик Миши, заехавшего к ним в Харьков по пути в Венецию. Они обратили внимание на его плебейскую поношенную одежду, которая явно нисколько не тяготила его, слушали его сентенции о преимуществах простой грубой пищи, молока перед изысканными кушаньями и вином… Это гурман Миша! А совсем недавнее его увлечение семейством Симонович, его связи с Академией, с Чистяковым, с Серовым? Для него со всем этим было покончено. И милая Маша Симонович, и ее сестры, и идеальные воззрения на жизнь, которые сближали его с матерью Серова… По его признанию, все это отошло. Как он выразился: «…все это была одна только кислота». Да, недаром он носил фамилию Врубель, что значит по-польски «воробей», не случайно называл себя «флюгером»… Теперь он забыл Петербург ради Киева. Но вместе с тем кажется, что его спешка в Венецию тоже похожа на побег. В семье он провел едва ли тридцать шесть часов, а родные его так давно ждали! Даже эпидемия холеры не останавливает его.
«Один чудесный человек (ах, Аня, какие бывают люди)…» — с этим образом в душе, с этим чувством в душе в ноябре 1884 года он, запасшись письмами и советами Прахова, покинул Россию.
X
Врубель едет в Венецию, чтобы исполнить четыре иконы для иконостаса Кирилловской церкви в стиле искусства раннего итальянского Возрождения и Византии и организовать снятие копий с отдельных фрагментов мозаик собора Сан Марко и базилики Торчелло. Дополнительная обязанность — опекать Гайдука, ученика школы Мурашко и помощника по работе в соборах, и следить за тем, чтобы им были как следует исполнены художественные работы, заказанные ему Праховым в качестве компенсации за средства, выданные на эту поездку.
«Быть венецианцем, теперешним венецианцем, должно быть — страшная тоска. Представьте себе колоссальный Московский гостиный двор с узенькими проходами, вечно темными помещениями, облупленными стенами домов, смрадными закоулками и дрянными лавчонками. Этот гостиный двор изрезан узкими канавками вроде Лиговки и в нескольких местах — каналами, из которых самый большой Canale Grande — петербургская Фонтанка. Вот Вам Венеция» — так полушутя, но и полусерьезно описывает Венецию киевский приятель Врубеля по дому Праховых — литератор Дедлов (Кигн), посетивший Венецию в обществе Прахова год спустя.
И судя по письмам Врубеля из Венеции, по дошедшим до нас его «заметкам» итальянских впечатлений и среди них — почти полному отсутствию пейзажей Венеции, судя по восторгу, который вызвала у Врубеля книжка об Италии Дедлова, вскоре вышедшая, — он разделял эти впечатления.
Художник глух к Венеции, к ее красотам, тем более что он прибыл в Венецию осенью, в опустевший город, покинутый туристами, и эта покинутость была запечатлена на всем лике пышной, волшебной красавицы Венеции, словно нахмурившейся, впавшей в мрачную дремоту, теперь казавшейся сумрачной, состарившейся или, вернее, обретшей «земной» исчисляемый возраст.
Поставщик мрамора Трезини, с которым Врубель познакомился в Киеве, исполнил свое обещание и помог ему устроиться на новом месте. Врубель поселился в самом центре Венеции, на маленькой площади — campo San Mauriccio — в старинном доме XV века, в огромной комнате, которая одновременно служила и мастерской. И едва он выходил за порог дома, как уже видел красоты Венеции, воспетые художниками, писателями, поэтами. Напротив дома — палаццо Сагури, которое своими узкими, с острыми арочными завершениями окнами, в духе венецианской готики, напоминало прославленное палаццо Фоскари. Совсем рядом, за домами, поднималась campanilla San Stefano. А если выйти на Большой канал по узенькой улочке и миновать столь же узкий канал (тоже почти рядом), то было рукой подать до Академии и совсем недалеко до самого сердца Венеции — пьяцца ди Сан Марко…
Конечно, были прогулки по городу, эти блуждания без руля и без ветрил по узким улочкам, манящим, загадочным, обещающим неожиданные дары и всегда исполняющим эти обещания. Конечно, были восхитительные поездки в маленьких баржах, в которых ездит трудовой люд, по каналам и на острова Сан-Джорджо, в Торчелло… Но характерно все же, что Венеция, образ Венеции, ее лик почти не запечатлевался Врубелем. В тех набросках — «кроках», которыми он дополнял свои письма, отправляемые в Киев Праховой, как бы продолжая живую беседу, стараясь донести свои переживания Венеции, нигде, за редким исключением, нет городских пейзажей. Рисуночки пером — беглые портреты людей, с которыми он встречался здесь: дочь звонаря, натурщица, которая будет позировать для Богоматери, Гайдук в разных видах, в разные моменты. Иногда эти рисуночки — своего рода дневниковые заметки — сопровождаются шутливыми подписями. Вот они с Гайдуком едут в Торчелло — «Гайдук накуксился, п. ч. я ему дал чашку слитков…». «Я теперь совсем-совсем не боюсь Гайдука». Какая-то печаль в интонациях этих заметок, в их натянутом, вымученном юморе. Нет, красоты города его не трогали, он мерз…
«От Миши получили письмо от 5 января из Венеции, — писала мачеха Анюте. — Устроился он с квартирой, столом и прислугой за 125 фр. в месяц. Одно только неудобство — это холод, в комнате 7 гр. тепла, так что Миша ходит весь в шерсти и в фуражке дома. Нельзя сказать, чтобы тон письма веселый, вот его фраза: „Человека греет не солнце, а люди“. Но ведь он еще не начал работать, а вот когда работа начнет спориться, так, верно, на душе станет веселее».
И как он обрадовался тогда, встретив на площади у Сан Марко своего петербургского знакомого, почти родственника, Дмитрия Ивановича Менделеева — знаменитого; химика. Как он был рад возможности глядеть в знакомое человеческое лицо, которое возбудило какие-то воспоминания о юности, Пете Капустине…
Портрет показывает, какая мрачная меланхолия посещала уже тогда Врубеля. Сжавшийся и скрючившийся в кресле бородатый человек с пронзительным, почти экстатическим взглядом похож на какую-то нахохлившуюся бесприютную птицу. Исполненный, как и многие другие портретные набросочки, пером и тушью, этот портрет отмечен лихорадочной хаотичностью штриха. Кажется, в нем собрались и высказались врубелевское одиночество и тоска, но и первые признаки душевной болезненной неуравновешенности. «…А иногда так падешь духом, так падешь», — признавался Врубель в то время в письме Савинскому в Рим. В этих строках больше чувства «венецианской зимы», проникнутой ностальгией, чем могло бы быть в самой откровенной исповеди.
«Вот ты можешь предположить, что мне, как итальянцу, есть куча о чем писать. И ошибешься. Как я ожидал, впрочем, так и случилось; как я уже писал Папе, перелистываю свою Венецию… как полезную специальную книгу, а не как поэтический вымысел. Что нахожу в ней — то интересно только моей палитре», — писал он сестре. Как хорошо это сказано и как точно!
«Перелистывая» Венецию «как полезную специальную книгу», он ходит по музеям, по соборам, смотрит искусство великих. Уезжая из Киева, он был настроен в первую очередь изучать корифеев венецианской живописи — Веронезе и Тициана, но жизнь внесла свои поправки. Совсем неподалеку от маленькой площади San Mauriccio находилась Академия, и этот музей стал заветным местом для Врубеля, куда он заходил едва ли не каждый день — для интимного общения с некоторыми шедеврами, открытыми им для себя, на поклонение им.
Только простаки могли считать Джованни Беллини наивным предшественником Рафаэля или, тем паче, Тициана, еще не знающим и не умеющим того, что было ведомо им. Все его образы были полны многозначительного смысла, были отмечены особенной глубиной и даже некоторой таинственностью. Беллини и еще один художник, Чима де Канельяно, совершенно затмили в сознании Врубеля тех, которые испокон веков воплощали самое понятие венецианской живописи в ее высших достижениях, — Тициана и Веронезе. «Беллини и Тинторет мне страсть как нравятся, — писал он Савинскому. — Первый несравненно выше на почве, реален (я не видел еще так чудно нарисованного и написанного тела, как его Себастьян), и отношения даже у него лучше, чем у Тинторета. Не знаю, почему мне Тинторет нравится более Веронеза. А лучше всех — Беллини. Он мне напоминает твою программу. Может, я вздор вру?»