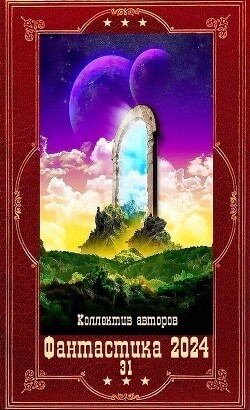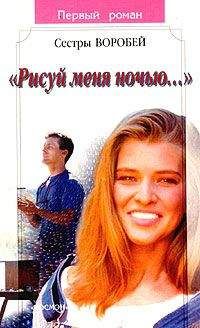От Рафаэля до Кавалера д’Арпино. Устройство римских живописных мастерских XVI века - Лубникова Мария Владимировна
Показательно, что Маркантонио гравировал не только копии уже существующих произведений, но и рисунки к тем, что не были осуществлены в живописи. Именно благодаря его гравюрам, например, нам известен утраченный рисунок «Суд Париса» и другой (дошедший) — «Избиение младенцев». Означает ли это, что Рафаэль рассматривал свои modello к неосуществленным живописным произведениям как самостоятельные произведения, пригодные для распространения в тиражной графике? Кажется вполне вероятным, что некоторые из рисунков сразу предназначались исключительно для тиража. Во всяком случае, нет никаких сомнений, что эротическая серия Джулио Романо I Modi («Позы») была изначально рассчитана исключительно на гравюры Маркантонио. Однако же то, насколько эскизным, не продуманным до конца выглядит рисунок с изображением избиения младенцев в сравнении с гравюрой, на которой появляется и большее количество фигур, и архитектурное окружение, вполне может свидетельствовать в пользу того, что в данном случае перед нами как раз один из эскизов к неосуществленной Рафаэлем фреске или картине. Если верно, что мастер передал свой эскиз Маркантонио, это еще раз явно доказывает, как изменилось в сравнении с предшествующим столетием представление о ценности подготовительных этапов работы.
Что же касается самой гравюрной мастерской Раймонди, в которую также входили Марко да Равенна, Агостино Венециано и Уго да Карпи, то особенно нас интересует их соратник Бавьера. По всей видимости, он взял на себя некие обязанности по распространению тиража, когда Рафаэль передал ему часть награвированных пластин в обмен на обязанность заботиться о его возлюбленной [204]. Совместное авторство стало обоюдно выгодно для двух мастерских. Коммерческий успех в сфере печати привел к тому, что Рафаэль решился издавать свои иллюстрации к «Энеиде» Вергилия.
Разумеется, приведенное здесь перечисление ассистентов и учеников Рафаэля нельзя назвать полным. Помощниками ассистентов Рафаэля по перечисленным направлениям в разное время становились Рафаэллино дель Колле, Андреа Саббатини, Бартоломео Раменги, Винченцо Таманьи, Баттиста Досси, Франкучи да Имола, Берто ди Джованни и Орацио Альфани. Членами мастерской были родственники главных учеников: Лука Пенни — брат Джанфранческо — и Лоренцетто, шурин Джулио Романо. В работе участвовали и другие, имена которых нам неизвестны. Система работы Рафаэля позволяла ему свободно впускать в свою мастерскую новых людей.
Мастерская после смерти мастера
Благодаря продуманному распределению ответственных задач между ассистентами и их участию во всех этапах работы мастерская Рафаэля была весьма автономной и жизнеспособной структурой. Опираясь на графическое наследие мастера, она вполне могла существовать и без него. После смерти главы студии 6 апреля 1520 года она просуществовала целых семь лет, вплоть до разграбления города войсками Карла V.
И все же смерть Рафаэля ознаменовала собой начало периода, сопоставимого в глазах современников с апокалиптической трагедией. В этот день, Страстную пятницу, как писали те, кто был в городе, «небеса захотели показать то же знамение, которое они показали после смерти Христа», и кончина эта «опечалила всех в Риме» [205].
Два года спустя, после воцарения на папском престоле Адриана VI, Бальдассаре Кастильоне писал: «…мне кажется, я в новом мире и что Рима больше нет там, где он был» [206]. Настроение прощания с городом первой четверти века, посетившее Рим за семь лет до его настоящего разграбления, распространилось на всю художественную среду, и в том числе на осиротевшую мастерскую.
В 1520 году у мастерской было три крупных заказа. Ответственность за декоративные росписи комнат виллы Мадама и потолка ватиканского зала Понтификов легла на Джованни да Удине: в первом случае ему помогали Джулио Романо и Перуцци, а во втором — Перино дель Вага.
По завещанию Рафаэля, его рисунки и вещи перешли к двум любимым ученикам — Джулио Романо и Джанфранческо Пенни [207]. Именно Джулио возглавил завершение работы над залом Константина по эскизам учителя. Его главным помощником в этом деле изначально был Рафаэллино дель Колле, а после 1524 года — Джанфранческо. Монохромные композиции у подножия фресок взял на себя Полидоро да Караваджо (ил. 18 на вкладке).
Ученики Рафаэля продолжили работу над росписью и закончили ее в 1523 году уже при папе Клименте VII. Они сохранили за собой этот заказ благодаря славе своего мастера, однако не придерживались его концепции достаточно точно. Как уже было сказано, еще при жизни Рафаэля Джулио и Джанфранческо могли изменять его замыслы и добавлять в композиции новые элементы и драматизирующие акценты, так что продолжение этой практики после смерти мастера не следует рассматривать как небрежное отношение к его замыслу. Помимо этого, мастера могли проявить свои сильные стороны в отдельных элементах росписи, таких, например, как монохромные фризы Джулио Романо с изображением гермафродитов, выполненные им с помощью зеркального отражения одного и того же картона [208]. Любопытно, что повторное использование картонов, практически не встречавшееся у Рафаэля, судя по всему, весьма активно использовалось в мастерской Джулио. Например, его ученики Джованни Лионе и Рафаэль дель Колле «точно соблюдая манеру Джулио в работах по его рисункам» написали герб папы Климента VII «с двумя фигурами по сторонам в виде герм так, что каждый написал по половине», что, как видится, подразумевает зеркальное отображение картона, как и в случае с гермафродитом [209]. Из чего можно сделать вывод, что Джулио не придерживался точно принципов Рафаэля, но уже сам определял методы работы. Он также явно сменил и стилистику произведения на маньеристическую, усложнив пространственные иллюзии и увеличив количество иллюзорной живописи: изображенных шпалер, скульптуры и архитектуры.
До 1524 года именно Джулио Романо управлял мастерской и поручал своим товарищам разные заказы. Например, заказанный Рафаэлю еще в 1505 году алтарный образ для монастыря Монтелуче около Перуджи выполняли в 1523–1525 годах Романо и Пенни [210]. Джулио сам выполнил верхнюю часть картины, изображающую Коронование Девы Марии, — а нижнюю, посвященную сюжету Успения, поручил писать по уже имевшимся рисункам Рафаэля Пенни, снова оправдывавшему свое прозвище Исполнитель.
Параллельно с новым статусом Джулио Романо осваивался в Риме и как знатный горожанин: он унаследовал от отца дом у подножия Капитолийского холма близ палаццо Венеция и в 1524 году занимался перестройкой его фасада [211]. Но, едва закончив обустройство, мастер покинул Рим и отправился в Мантую ко двору Федерико Гонзага, одновременно запустив процесс тиража своей скандальной серии гравюр с римскими куртизанками, снабженной сонетами Пьетро Аретино, то есть отрезав себе путь возвращения ко двору Климента VII. Маркантонио, гравировавший серию, оказался на некоторое время в тюрьме. Мастерская перешла к Джанфранческо Пенни, но тот не стал всерьез заниматься ей. Опасаясь конкуренции Перино, Пенни женил его на своей сестре. Однако Перино продолжил работать не с ним, а с Джованни да Удине В 1526 году, предприняв неудачную попытку стать ассистентом Джулио уже в Мантуе, Пенни уехал в Неаполь, где вскоре скончался.
Отбытие мастеров из города было связано с рядом обстоятельств. Со смертью Льва X завершился период больших монументальных заказов. На понтификат Адриана VI (1522–1523) пришелся экономический упадок, усугубленный вспышкой чумы (1523). Климент VII (1523–1534) не стал крупным заказчиком — он покровительствовал лишь Джованни да Удине и Себастьяно дель Пьомбо, портретировавшему членов курии. Художники постепенно покидали Рим, распространяя в Италии «пресловутую римскую манеру» [212].