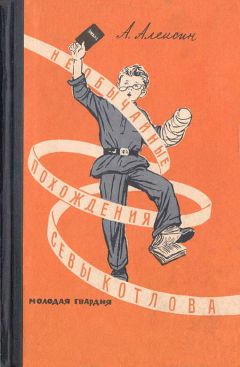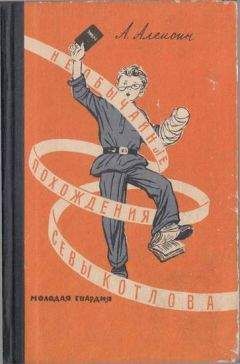Григорий Островский - Захарий Зограф
И действительно, тот же Захарий Зограф, пользовавшийся при жизни славой одного из лучших мастеров, и безымянный ремесленник или деревенский «маляр», писавший образа для односельчан или сельской церкви, принадлежали, по существу, — вне зависимости от масштаба дарования — к одному профессиональному и социальному коллективу. И тот и другой обучались «домашним» способом, перенимая навыки от отца-деда или в качестве ученика такого же мастера, тот и другой работали по заказам монастырей, городских и сельских общин, ктиторов из среды ремесленников, купцов, зажиточных крестьян. Болгария не знала своих дворян-меценатов, светских и церковных князей, тем более своего Лоренцо Великолепного или саксонских курфюрстов; греческие владыки, не говоря уже о турецких пашах, менее всего были заинтересованы в творчестве порабощенной и презираемой райи. Искусство болгарского Возрождения возникло, бытовало и крепло в среде скромных просветителей в монашеских рясах, даскалов, искусных ремесленников, предприимчивых торговцев, крестьян, в самой толще народа — многоликого, неоднородного, но в те времена единого в неодолимом стремлении к духовной и политической независимости. Это было искусство не привнесенное извне, «сверху», а создаваемое художниками, выдвинутыми из своей же среды самыми широкими демократическими слоями болгарского города и деревни. «Производители» и «потребители» искусства принадлежали к одному социальному коллективу, и это, в свою очередь, создавало такую культурную ситуацию, которая была свойственна не столько «ученому» искусству нового времени, сколько культуре фольклорного типа.
Таким образом, открывается возможность введения в характеристики и оценки болгарского искусства эпохи национального Возрождения еще одной системы координат. Речь идет не о народном искусстве в его традиционном ограничении художественными промыслами, утилитарно-эстетической сферой крестьянского бытового уклада, а о народной художественной культуре, понимаемой более расширительно, не исчерпываемой собственно крестьянским искусством, но выражающей творческий потенциал широких народных масс и деревни, и города, — в XIX веке в большей степени болгарского города, чем деревни. Историческая специфичность Болгарии первой половины XIX столетия, преобладание ремесленного способа производства — как материального, так и художественного, — еще не обозначившаяся дифференциация на «элитарную» культуру господствующих классов и культуру народную, доминанта крестьянско-патриархального начала в бытовом и культурном укладе широких слоев городского населения и фольклорной изобразительности — во всех областях искусства, не исключая церковную стенопись и икону, — все это позволяет рассматривать искусство болгарского Возрождения, и в частности портрет тех лет, в параметрах как профессионального искусства, так и народной художественной культуры.
Такая точка отсчета исключает оценку искусства Болгарии этой эпохи как «незрелого» по отношению к последующим периодам, а сам болгарский портрет первой половины XIX века, портреты кисти Захария Зографа выступают уже в качестве крупного и самостоятельного, а не только «переходного» явления. Отнюдь не умаляя достижений болгарских портретистов конца XIX — начала XX века, получивших серьезную профессиональную подготовку и свободно владевших всем арсеналом выразительных средств современной им европейской живописи, мы смело можем поставить рядом с ними куда более скромные портреты их предтечи, обаяние и притягательность которых со временем не слабеют, но возрастают. Секрет этого — в замечательной целостности образа, безвозвратно утраченной в последующие эпохи и сохранившейся, быть может, лишь в народном искусстве, в смелости художника, впервые открывавшего своим современникам и соотечественникам мир человеческой индивидуальности в его ярком национальном своеобразии, чистосердечии и непосредственности доверчивого отношения к жизни.
Явление это действительно самобытное, оригинальное, но не уникальное. Очевидно, было бы тщетно искать аналогии в современном ему искусстве высокоразвитых западноевропейских стран. Пусть не по социально-историческим характеристикам, но по самому духу такие параллели просматриваются скорее в искусстве итальянского кватроченто, поэтически утверждавшем в художественной культуре Европы образ человека нового типа, раннем нидерландском и немецком портрете, польском (так называемом сарматском) и украинском портрете XVII–XVIII веков.
В первой половине XIX столетия наиболее близкой к болгарской оказывается портретная живопись балканского региона — греческая (Н. Кандунис, Ф. Пидзе, Н. Кунелакис), сербская (И. Нешкович, А. Теодорович, П. Джуркович, У. Кнежевич, К. Данил, Д. Аврамович), румынская (И. Баломир, Н. Полковникул). (Эта близость, случается, рождает поразительные совпадения не только в типологии, но даже в композиционных схемах и деталях: таково сходство автопортретов Захария Зографа и Нешковича.) Определяя балканскую портретную живопись как «искусство наивно-познавательного портрета», В. Полевой указывает, что в его сложении «решающую роль сыграло пристальное внимание к новому типу человека, выдвинутому эпохой исторических переломов. Героем этого искусства стал современник, существующий рядом с художником в обычной жизни и воспринятый в его реальной ценности. <…> Здесь господствует своя норма художественно-этического представления о человеке, и тщетны были бы попытки отыскать ее истоки в каком-либо из общеевропейских стилей» [63, с. 19].
И еще одна, быть может несколько неожиданная, аналогия: русский народный бытовой или, как его часто именуют, купеческо-мещанский портрет конца XVIII — первой половины XIX века. В основе этого сближения лежат типологическая специфичность, позволяющая рассматривать русский и болгарский портрет в параметрах народной художественной культуры, гуманистическая концепция личности, отразившая рост и укрепление национального самосознания и мировосприятие широких демократических слоев общества, крепкие нити, связывавшие портрет этого типа с эстетическим сознанием и бытовым укладом трудовых, и в первую очередь ремесленных, кругов города, образно-пластические структуры, уходящие своими корнями в искусство художественного примитива как одного из высших и эстетически значительных проявлений творческой одаренности народов.
Своеобразие Захария Зографа — и в этом также особенность исторического момента — в том, что в его творчестве содержались две возможности дальнейшего развития болгарского искусства, в значительной мере реализованные им самим. В широком контексте европейского искусства XIX века болгарский зограф, самоучка, лишь едва прикоснувшийся к началам профессиональной образованности, оставался «примитивом», народным художником со свойственными фольклорному эстетическому сознанию свежестью и цельностью восприятия, непосредственностью и чистотой выражения. В болгарском искусстве он выступал высокопрофессиональным мастером иконы и церковной стенописи, автором первых станковых портретов, и уже это поднимало его над средой других зографов. Масштабность его дарования вобрала в себя сложную и неоднородную структуру искусства национального Возрождения, развивавшегося, как это мы пытались показать, не в одной, а в двух системах координат.
«Захарий Зограф, — писал А. Божков, — властно охватывает и „скрытые“ тенденции в развитии болгарской изобразительной культуры, и те моменты, на которых наше искусствознание и сейчас еще будет сосредоточивать свое внимание. Порывы и потребности, которые распаляют его воображение, ликвидировали границу между официальным и народным искусством еще более последовательно, чем раньше. <…> Высокие нормы профессионального искусства встречаются и пересекаются с примитивизмом без особых конфликтов и препятствий. Хотя ведущие мастера ревностно поддерживают свой престиж, вышедшие из народа самоучки нередко входят в „запретные“ сферы, превращая традиционный репертуар в совокупность наивных форм и мотивов, — прилагаемый критерий оказывается во многих случаях очень условным, и потому совмещение высоких норм и свободной импровизации допускалось и в творчестве папы Витана-младшего, Христо Димитрова, Йована Образописова. Смело и сочно выраженная форма, даже когда она не соразмерна, принималась ими как качество, так же как и гротескное, дисгармоничное и грубоватое рассматривается иногда как эстетическое, родственное изящному штриху, как светло созвучные, элегантно соразмерные формы. Классическая красота допускается в этом случае не как единственный критерий, и ее атрибуты получают всегда обязательную домашнюю редакцию. Таким же образом раскрывает народный дух этой эстетики и Захарий Зограф. Мы не ошибемся, если назовем некоторые его произведения примитивными, так же как и не ошибемся, если примем другие как высокопрофессиональное и зрелое искусство с исключительными достоинствами. Он изыскан и по-своему небрежен, лаконичен и одновременно болтлив (хотя бы в некоторых религиозных композициях), строг в построении некоторых своих произведений и снисходительно расточителен в использовании некоторых орнаментов. Он не забывает дидактического начала традиционных циклов, но освежает их живыми элементами фольклора, рисует непременных аскетов и мучеников, но превращает их в земные жизненные образы. Все эти условности имеют глубокие корни в быту и поэтических представлениях массового зрителя и не порождают принципиальных конфликтов — они выражают массовые чувства, представляющие жизненные соки общей изобразительной культуры. И как в очертаниях больших иконостасов собираются тысячи мотивов… чтобы очертить общий ритм крупных форм, так и в его живописи собираются тысячи знакомых мыслей, чувств и наивностей, чтобы совместно зазвучать жизнерадостным гимном человеку, который созрел для свободы и земной красоты» [7, с. 8–10].