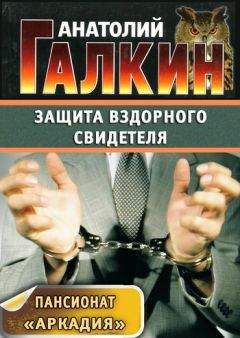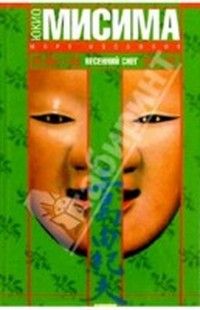Юрий Штеренберг - Истории, связанные одной жизнью
Родственники моего знакомого очень хотели оказаться и моими родственниками, но ничего не получилось. Никаких зацепок. Зато они мне сообщили адреса большого количества житомирских Штеренбергов. Похоже на то, что когда-то, сто или больше лет назад, в Житомире проживала большая семья с этой фамилией. И все вечера, замечательные летние украинские вечера, я ходил из дома в дом, встречал очень доброжелательных людей, однофамильцев, но вспомнить о людях и событиях такой давности никто не смог. В последний день я пошел в местный музей изобразительных искусств. В большом центральном зале музея демонстрировались полотна художника-земляка, гордости всех житомирян – Штеренберга. Да, того самого Штеренберга, друга Маяковского.
О Либерманах, не входящих в семью моей матери, мне в России приходилось слышать совсем нечасто. За исключением, конечно, таких известных личностей, как сенатор Либер-ман, баллотировавшийся на последних выборах на пост вицепрезидента Соединенных Штатов Америки, и Авигдор Либер-ман, выходец из России, очень важная политическая фигура в Израиле. И совсем недавно я узнал, что такой же фамилией обладал известный во всем мире человек, но совсем под другой фамилией. В книге Марка Штейнберга “Евреи в войнах тысячелетий”, со ссылкой на значительное число первоисточников, утверждается, что настоящей фамилией шефа КГБ и генсека КПСС Юрия Андропова является Либерман. Родился он в Ставропольском крае в семье железнодорожника Вэлва (Владимира) Либермана. Мать его – Геня (Евгения) Файнштейн, учительница музыки, после смерти мужа вышла вторично замуж за грека Андропуло, который усыновил Юрия. Насколько это соответствует действительности, я не знаю – евреи, как и другие малые нации, любят относить к своим соплеменникам многих более или менее известных людей. Теперь о фактах.
В этих главах я называю поименно родственников со стороны отца и со стороны матери. Должен сразу сказать, что обеспечить относительно одинаковую подробность и глубину описания обеих частей нашей большой Семьи мне не удалось. Среди причин и качество памяти, и объем располагаемой информации, и характер взаимоотношений с тем или иным человеком. Так получилось, что наша малая семья на протяжении моей жизни имела более тесные родственные связи с семьями сестер и братьев моей матери, нежели с родственниками моего отца. Это произошло, возможно, потому, что главой нашей семьи была мама, а также из-за раннего ухода отца. Именно поэтому, к сожалению, описание семьи Либерманов оказалось более распространенным и, может быть, более теплым, чем описание семьи Штеренбергов. Хотя я любил их вроде бы одинаково. Но так получилось.
Родители моего отца – Моисей и Мария – какое-то время жили в Житомире. Дедушка был гравером, бабушка, конечно же, домашней хозяйкой. В Житомире у них родились все их дети, не так уж мало – десять человек. Четверо сыновей: Соломон, Иосиф, Овсей и Давид, и шестеро дочерей: Полина, Ревека, Шифра, Раиса, Этель и Сарра. Мне довелось видеть или слышать только о девятерых из них. Соломона уже не было в живых, по неизвестным мне причинам он покончил жизнь самоубийством, застрелился. Вся семья в начале двадцатого века из-за начавшихся на Украине погромов выехала из Житомира, причем большинство из них, включая дедушку и бабушку, оказались в городе Ростове-на-Дону. Мне когда-то отец рассказывал, что в 1905 году у него созревал план эмигрировать в Японию. Почему в Японию и почему этот план не осуществился – я не помню.
То, что семья жила к тридцатым годам в Ростове не так уж долго, свидетельствует тот факт, что и старики, и их дети – холостые и семейные – жили неустроенно: в комнатах коммунальных квартир или в маленьких квартирках, как правило, на первом этаже и без удобств. Семья была дружная, все расселились в одном районе города – от Донской улицы, первой улицы от Дона, до Тургеневской, четвертой улицы, по вертикали, и от Большого проспекта до Таганрогского, по горизонтали всего пять улиц.
Хотя при их жизни я был еще совсем ребенком, у меня сохранились образы дедушки и бабушки. Запомнились выразительные еврейские глаза и маленький рост. Именно таким ростом они наградили всех своих детей, и эти гены оказались настолько сильными, что и последующие поколения, как правило, обладали ростом ниже среднего. До какого возраста дожили бабушка и дедушка, я точно не знаю, но думаю, что им было за семьдесят. Дедушка уже не работал, и жили они в семье дочери Ривы, где-то в районе тоже Тургеневской, сразу же за Рынком. Рива, зубной врач, запомнилась мне, почему-то увеличенной верхней челюстью, но она не была уродливой. Квартирка их была маленькой, две комнатенки на низком первом этаже, насчет удобств – не помню. А ведь муж Ривы был известным врачом в городе, летом он, как правило, совмещал полезное с приятным и работал главным врачом в каком-либо кавказском санатории. Иногда, помимо его семьи – жены и дочери Эммы – он приглашал чуть ли не на все лето какую-либо семью, а то и больше, из родственников Ривы. Так, летом 1934 года в Горячий Ключ были приглашены не только наша семья, как мне помнится – полностью, но и мой двоюродный брат, сын Полины, Иосиф. Мои встречи встречи с дедушкой и бабушкой мне запомнились почему-то только в квартире их сына, дяди Давида. Где-то даже хранится единственная фотография, на которой я стою рядом с дедушкой и бабушкой и Давидом.
Что касается семьи тети Ривы, то во время войны она с дочкой Эммой, сестрой Шифрой и ее дочерью Сусанной эвакуировалась в Свердловск, а после войны всей семьей переехали в Харьков. В настоящее время Эмма уже со своей семьей живет в Израиле.
Давид жил на Донской улице между Газетным переулком и Большим проспектом, совсем рядом с домом, в котором жила семья моей матери. У него и его жены Лизы был единственный сын. С Матвеем, который умер еще в детском возрасте, встретиться мне не пришлось. Дядя Давид пошел по стопам своего отца, он работал гравером. Помню широкую улыбку и толстые красные губы. Его подарки мне и Инне были плодами его рук – печати с нашими именами и фамилиями. Причем печати были не простые, а с механикой: при нажатии они раскрывались, печатка отрывалась от подушечки с краской и с треском прижималась к бумаге. Середина тридцатых годов почему-то для многих, в том числе и для членов нашей большой семьи, стала рубежной – люди переезжали в другие города, в том числе, в столицы. Почему ростовские масштабы оказались недостаточными для простого гравера, я не знаю, но Давид и Лиза переехали в Москву. Поселились они в районе, который звучал для меня достаточно загадочно – на Лосином Острове, в Лосиноостровске. К сожалению, Давид прожил в Москве недолго, всего несколько лет. Он умер от быстро развившегося рака пищевода довольно молодым.
Шифра жила совсем близко от нас – в доме на углу улиц Канкрынской и Николаевской. Канкрынская – это вторая улица от Дона. Ростов стоит на горе, и поэтому, начиная с четвертой-пятой улицы от Дона и ниже, крутизна перпендикулярных Дону улиц резко нарастает. Это очень было заметно по их дому, в котором Шифра жила с мужем Ильей Спектром, а с середины 30-х и с дочерью Сусанной, а также по нашему дому – на углу Канкрынской и Казанского переулка. Со стороны Канкрынской наш дом был одноэтажным, а десятью-двадцатью метрами ближе к Дону – уже двухэтажным. Прожить Шифре с Ильей долго не пришлось. В 41-м Шифра с Сусанной эвакуировались вместе с семьей Ривы куда-то в Сибирь, а затем остались в Свердловске (Екатеринбурге), где Сусанна живет и поныне.
Из всех наших родственников со стороны отца, Сусанна, пожалуй, самый близкий и теплый человек. Она в курсе почти всех событий, происходящих в каждой малой семье, она наиболее подвижный человек, побывавший в гостях у всех, кого только можно было посетить. Со всеми переписывалась раньше и переписывается поныне, лишь бы когда-нибудь этот человек ответил. Именно от нее я имею информацию, где сейчас находятся некоторые из наших общих родственников. Мы с ней много раз встречались, и в Ростове, и в Сочи, когда она каждый год после войны приезжала к нашей общей тете Соне, которая, не имея семьи и детей, относилась к ней, да и к Эмме, в полном смысле слова, по-матерински. До сих пор помню тети Сонино “Эмусенька и Санусенька”. Довольно часто она приезжала и к нам, в Ленинград. Помню ее приезд где-то в середине восьмидесятых, под Новый год. Мы тогда (к сожалению, довольно редкий семейный случай), на ходу сымпровизировали концерт, в котором приняли участие все, включая наших детей и даже кошку Люсю. Помню, как всем было радостно, и как от души смеялась Сусанна. Где-то даже сохранилась, так называемая, программа этого концерта, в которой, в частности, сообщалось что “весь вечер у ковра Люся Штеренберг”. Последний раз Сусанна приезжала к нам в конце восьмидесятых или начале девяностых. Из Америки я написал ей письмо, на которое она ответила и сообщила номер своего телефона. Я с ней разговаривал один, максимум, два раза. После чего все мои звонки, а их было много, оказались безрезультатны.