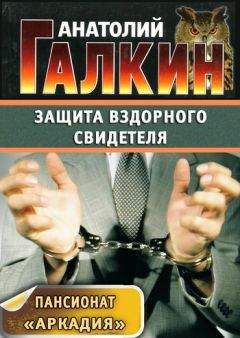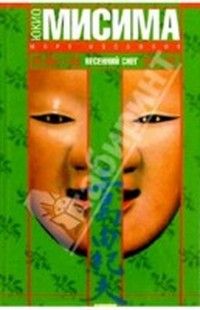Юрий Штеренберг - Истории, связанные одной жизнью

Обзор книги Юрий Штеренберг - Истории, связанные одной жизнью
Юрий Штеренберг
Истории, связанные одной жизнью
I. ТРИДЦАТЫЕ
Детство
Родился я в городе Ростов-на-Дону. Мне кажется, что я помню себя еще лежащим в кроватке с сеткой, но достаточно отчетливо вижу себя четырех-пятилетним. Я запомнил наступление 1930 года нового десятилетия, именно так я запомнил это событие, хотя что такое десятилетие, я, конечно, не понимал.
Конец двадцатых – начало тридцатых годов. Только-только закончилась гражданская война, наступали не менее драматические социальные и экономические события. Но простой человек, если в данный момент эти события его прямо не касались, жил своей жизнью, своими узкими повседневными интересами. Все как бы проходит стороной.
Мне кажется, что именно так жила тогда наша семья, да и большинство наших родственников и знакомых. В народе, когда вспоминалось прошлое, говорили: “Это было при царском режиме” или “Это было в мирное время”. Именно “мирное”, а не дореволюционное. И оно казалось очень далеким, несмотря на то, что молодые люди того времени оставались еще молодыми, а старики продолжали жить. Я учился во втором или третьем классе, когда к нам в школу пришел француз, участник или свидетель Парижской коммуны 1870 года. Мы, ребята, пытались вычислить, сколько же ему лет, и с ужасом пришли к выводу, что ему где-то за семьдесят, совершенно немыслимый возраст.
Запомнились еще две истории, характерные и для того времени, и для последующих годов. Соученик моей сестры, Моня Леин, жил недалеко от нас, тоже на Канкрынской улице. Почему-то я помню его образ симпатичного и улыбчивого мальчика. Где-то в первой половине тридцатых годов стало известно, что семья Леиных выезжает в Палестину. Это был первый для меня случай отъезда кого-либо за границу, и я был искренне поражен: как такое возможно, чтобы люди добровольно уезжали из такой замечательной страны, как СССР. Про себя я решил: первое, что сделает Моня в Палестине – это организует пионерский отряд и начнет борьбу с капитализмом… Как в старой кинохронике, я вижу собрание жителей нашей улицы, посвященное первым выборам в Верховный Совет СССР. Были, конечно, восторженные выступления, славословия товарищу Сталину. Но в памяти осталось только выступление одного еврея, из рабочих, у которого постоянно был непорядок с голосом, он почему-то хрипел. Этот человек задал ведущему собрание какой-то неясный для меня вопрос. Осталось в памяти потому, что больше я этого человека никогда не видел.
Совсем недавно прикрыли НЭП, но некоторые признаки недавней сытой жизни еще сохранились. Почти каждое утро во двор приходили торговцы с коробами, бидонами и с аппетитными предложениями: “Горячие бублики”, “Кислое молоко” или что-нибудь еще. Старьевщики с мешками: “Старые вещи покупаем – новые вещи продаем”, ремесленники с переносными инструментами, которые тут же чинили жестяную посуду, лудили примуса, точили ножи и ножницы, вставляли стекла. На улицах тетки с лотков продавали самодельные сласти, жареные семечки. Еще работали частные магазинчики. Помню, отец завел меня в маленький букинистический магазин на Казанском переулке и купил сборник детских рассказов Льва Толстого. В нашем доме – во дворе и на чердаках – не хранились, но валялись орудия прикрытого недавно небольшого частного парфюмерного предприятия “Санитас”, одним из работников и совладельцев которого был мой отец.
Наша семья жила в небольшой квартире в полутораэтажном доме на тихой улице, круто спускавшейся к Дону, в двух кварталах от самого Дона. Лишь изредка по этой улице, Казанскому переулку, или по пересекающей ее Канкрынской улице, мощенных булыжником, проезжала чем-то груженая телега или, еще реже, пролетка на резиновом ходу с седоком. Зимой эти пролетки превращались в сани, и высшим признаком молодечества для нас, пацанов, было незаметно на ходу подцепиться сзади к саням и прокатиться, стоя на полозьях, пока кучер не пуганет матом или не огреет кнутом.
Наша квартира состояла из трех небольших проходных комнат, причем вторая комната, детская, была без окна, а кухню – четвертую комнату в линейке трех жилых – отец построил из расположенного рядом сарая. Печное отопление в двух комнатах, отсутствие ванной, туалет выгорожен в кухне. По нынешним меркам эта квартира мало пригодна для комфортного жилья. Однако посторонние люди, впервые оказывавшиеся у нас в квартире, удивлялись непонятно откуда взявшемуся комфорту и уюту. А это было делом рук и вкуса моей мамы.
Несколько слов о языке общения в нашей семье. Я хорошо помню, что мои родители, если не хотели, чтобы мы с сестрой понимали, о чем идет речь, говорили по-еврейски. Но это происходило достаточно редко, а так как в школе Инна начала изучать немецкий и стала понимать еврейские слова, то такая конспирация потеряла свой смысл. Именно поэтому, к сожалению, я совершенно не понимаю идиш, за исключением всего лишь нескольких ходовых словечек.
Говорить о моем детстве и вообще о довоенной жизни нашей семьи в Ростове и ничего не сказать о наших ростовских родственниках – это значит удалить очень важный фон нашей жизни, даже больше, чем фон, качество жизни. И у папы и у мамы было много братьев и особенно сестер, большинство из которых1, со своими семьями жили в Ростове и все неподалеку от нас: на Канкрынской, на Донской, на Тургеневской, на Малом… И, в отличие от теперешних взаимоотношений, родственность эта была не номинальной, а настоящей. Мне кажется, что каждый день либо у нас были гости, либо мы шли к кому-то. Особенно близкие отношения у нас были с семьями трех маминых сестер Мани, Раи и Сусанны. Семья Мани, Ицковичи, жили почти что напротив нас, и в течение дня и взрослые, и дети много раз забегали друг к другу. А теплота человеческих отношений взрослых очень чутко воспринимается ребенком. Я любил Солю и Фаню, детей Ицковичей, и хорошо чувствовал их отношение ко мне. Тот же Соломон, который был старше меня на семь лет, во время какого-то семейного праздника напоил меня так, что я по-настоящему опьянел. А мне было тогда всего пять лет. Но зато однажды Соля мне притащил такое, чего не было ни у кого из моих знакомых ребят – настоящий огромный тяжелый американский револьвер “Смит-Вессон”, скорее всего, девятнадцатого века. Не знаю, можно ли было из него стрелять, но барабан крутился, курок работал. Куда он потом делся, я не помню.
Да, мое детство было очень уютным и спокойным. Мне кажется несколько удивительным тот факт, что, будучи совсем ребенком, я ощущал эту атмосферу. В памяти зрительной и памяти чувств осталось несколько сценок, совсем незначительных, когда я понимал, а, вернее, ощущал, что мне хорошо.
Например, меня купают в ванночке в кухне, завертывают в полотенце или простыню и несут через столовую в детскую. В столовой сидят знакомые люди, все улыбаются, у всех хорошее настроение и мне почему-то радостно.
Раннее утро, меня берут из кровати и подносят к окну столовой. Выпал первый снег. Кругом бело и светло и так же светло у меня – где, не знаю.
Мама что-то печет, по всей квартире распространяется запах сдобного теста. И этот запах был постоянным запахом нашей квартиры, запахом моего детства.
Меня устроили в круглосуточный детский сад на все лето. Сад был по тем временам очень хорошим, размещался в зеленой зоне поселка Сельмаш. Папа меня туда отвез утром, мне выделили постель, повели в столовую, накормили, как сейчас помню, вкуснейшей гречневой кашей. Но что это за запах (обычный запах столовой), он совсем не похож на запах, который царит у мамы на кухне. И потом, мне очень скучно без мамы и папы, я хочу домой. Вечером появляется папа и, не спрашивая меня ни о чем, забирает навсегда. Счастливей меня не было никого.
Мне было хорошо дома, но я все же больше любил бывать в нашем дворе или на улице. Весна, по Казанскому переулку, по краям его проезжей части, бегут мощные ручьи, пацаны из снега делают запруды, вода разливается, прохожие ругаются. Мы мокрые, резиновых сапог тогда еще не было, но веселье и смех не прекращаются целый день.
Тротуары только-только подсохли. Мы наконец-то снимаем галоши и ботики, и тут же начинаются бесконечные игры. Дозваться меня домой было очень трудно. Особенно я не любил, когда из кухонного окна, выходившего во двор, неслось настойчивое: “Юрочка, иди пить какао”.
Но самыми замечательными были походы на Дон. Собиралась компания ребят во главе с кем-либо из взрослых. Мы шли к набережной Дона, затем по набережной до Буденновского (бывшего и нынешнего Таганрогского) проспекта, переходили через Дон по наплавному, на баржах, мосту (при немцах он стал железобетонным) и оказывались на Левбердоне, ростовский жаргон, на левом берегу Дона. По песчаному левому берегу шли в обратном направлении на пляж. Мы проходили мимо торговцев вареной горячей кукурузой, дымящейся картошкой, первыми ягодами, жареными семечками и обязательно водой со льдом. Водой обычно торговали такие же мальчишки, как и мы. И, наконец, купание в мутной, теплой, пахнувшей водорослями реке.