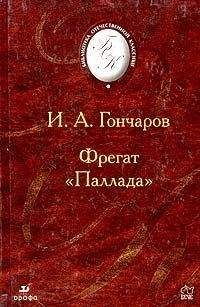Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
. (I, 171-172)
Самым существенным в «Ноктюрне» Бродского является его «именной» глагол – «бресть», «бродить», оттого он как заправский бармен микширует невероятный коктейль из головоломно-похмельных ингредиентов трех символов веры – Коммунистического Манифеста, Троицы и водки. Только в бродильном чане алкоголя поэзии бред идеологий и конфессий претворяется в хмельную водную струю свободной речи. В этом глаголе и в его производных («из костелов бредут», «вброд перешедшее Неман еловое войско», «погружается в Балтику в поисках броду», «призрак бродит по Каунасу») – основная музыкальная тема стихотворения, его узел и вензель. То, что приобретено поэтами, разделить, отнять не в силах никакие границы и правители, только поэзия вправе смешивать в фривольной азбуке раненные цели и средства:
Наша письменность, Томас! с моим, за поля
выходящим сказуемым! с хмурым твоим
домоседством
подлежащего! Прочный, чернильный союз,
кружева, вензеля,
помесь литеры римской с кириллицей: цели
со средством,
как велел Макроус!
Наши оттиски! в смятых сырых простынях –
этих рыхлых извилинах общего мозга! –
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.
Либо – просто синяк
на скуле мирозданья от взгляда подростка,
от попытки на глаз
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы
до лица, многооко смотрящего мимо,
как раскосый монгол за земной частокол,
чтоб вложить пальцы в рот – в эту рану Фомы –
и, нащупав язык, на манер серафима
переправить глагол
. (III, 50-51)
Псевдоскандинавского тирана «Макроуса» Венцлова точно расшифровывает как Сталина – Большие Усы, по поводу всего остального – невинное молчание.
А между тем, выходящее за поля сказуемое – «бродить» из фамилии автора «Бродский». Сидящий дома Том и его хмурое подлежащее – «слово», из фамилии Венц-слова. Оба они в общем вензеле неба и нёба – многоочитом кислороде (О два) поэзии, куда вписаны четыре «о» их поэтических имен («В царстве воздуха! В равенстве слога глотку кислорода! … к небу льнут наши “o!”»). Римская литера Бродского – «B» совпадает с кириллицей «В» Венцлова – отсюда «помесь» алфавитов. Пушкинский пророк (с ироническим рвотным рефлексом) и повадками Фомы неверующего переправляет глагол «брести» – в «обрести». Можно возвращаться к началу – обретениебродящих ли, сидящих ли дома бардов – «наша письменность, Томас» и т. д. Вообще каждая строфа «Ноктюрна» сулит такие обретения. Цель и средства совпадают – имена вписаны в пространство страны (от края и до края), где и произнесет их всяк сущий в ней язык. То ли памятники, то ли светочи, то ли фонари под глазом.
Завершим на шутливой ноте, как и было обещано. Один из вопросов «Ноктюрна»: «Чем питается призрак? Отбросами сна, / отрубями границ, шелухою цифири: / явь всегда норовит сохранить адреса». Ответ дает еще один скитальческий пророк, обретающий наконец жилье. Из стихотворения «Пророк будущего» (1886) Владимира Соловьева, пожелавшего, по его же словам, «восполнить соответствующие стихотворения Пушкина и Лермонтова»:
Угнетаемый насилием
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой.
‹…›
Но органами правительства
Быв без вида обретен,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворен
[60].
«МИР МЕРЦАЕТ (КАК МЫШЬ)».
КОММЕНТАРИЙ К ОДНОЙ ЦИТАТЕ МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ ИЗ АЛЕКСАНДРА ВВЕДЕНСКОГО
909 студии
Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной.
Велимир Хлебников
Dame souris trotte,
Noire dans le gris du soir…
Paul Verlaine
Идею непрерывного творения в своей книге «Лекции о Прусте» Мераб Мамардашвили иллюстрирует примером из Александра Введенского. Он пишет: «Обэриуты шли в своем поэтическом движении во многом от Хлебникова, у которого мания видеть словесный мир как такой, который воссоздается заново, ‹…› участием поэта в структуре мира, а не просто использованием слов. И вот у Введенского есть такие слова: “Посмотрите на мышь…” В действительности мы ее не видим, но она мерцает. Представьте себе пульсирующее движение, недоступное нашему взгляду, потому что оно совершается в значительно меньшие отрезки времени, чем размерность нашего воспринимающего аппарата, наших глаз. Какие-то бесконечно малые движения. Введенский говорит: “Этот предмет существует мерцая”. Подставьте под слово “мерцание” наше участие в предмете»[61].
Философ цитировал поэта по памяти, поэтому приведем полную и точную цитату. Это из неоконченного текста (под условным названием) «Серая тетрадь»: «Если стереть цифры, если забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. Забудь только слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый ее шаг покажется новым движением. Потом, так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты называл ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь)» ( II, 80-81).
Очень странный образ времени – мерцающая мышь. К тому же мерцание этой мыши предлагается как мера движения всего мирового целого. Может быть, циферблат со стертыми цифрами и мерцающая мышь, встречающиеся в главе «Простые вещи», и являются для Введенского простыми вещами, но не для нас. Немотивированность и нарочитая экстравагантность этого образа (мышь вообще довольно редкая гостья в поэзии Введенского) заслуживают более пристального внимания.
Идея непрерывного творения связана с дискретностью и содержательностью времени. Обэриут мучительно переживал раздробленность мира:
Не разглядеть нам мир подробно,
ничтожно все и дробно.
Печаль меня от этого всего берет.
(«Четыре описания», I, 165)
Смерть – символ дискретности мира во времени: «Годовалый мальчик Петя Перов. Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру» (II, 47). То есть между двумя моментами времени нет непрерывности (а вдруг умру?). Последующий момент не вытекает из предыдущего, а предыдущий не обусловливает последующего. В промежутке, зазоре между этими моментами времени герой может находиться (перед лицом смерти!) только в (под)вешенном состоянии. В стихотворной пьесе «Мир» ‹1931›:
ВИСЯЩИЕ ЛЮДИ.
Боже мы развешаны,
Боже мы помешаны,
мы на дереве висим…
(I, 159)
Для существования нет гарантий, нет опоры. Смерть нельзя предсказать, как нельзя ее и избежать. Глава «Время и смерть», предшествующая «Простым вещам», в трех разных, почти навязчивых вариациях повествует о повешении. Например: «Опять сон. Я шел со своим отцом, и не то он мне сказал, не то сам я вдруг понял: что меня сегодня ‹…› повесят. Я понял, я почувствовал остановку» (II, 80). Повешение и символизирует эту остановку времени, то есть смерть[62].
Только тем участием поэта в мире, о котором говорит Мамардашвили, и создаются условия единства раздробленного мира. Создаются, как бы поверх разрозненных моментов времени, особого рода длительности, благодаря которым только и может существовать мир. «Мышь» и поможет нам выяснить природу этой особой длительности в дискретном мире. Специфику самого этого образа Введенского опять же можно выявить лишь с учетом традиции и литературного контекста.
Время в русской поэзии начала века прочно связано с образом мыши. Остановимся на ключевой для поэтической мифологии мыши в Серебряном веке – статье Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь» (1911), вошедшей затем в «Лики творчества». Мышь для Волошина – «знак убегающего мгновения». Она всегда в движении и не знает статики. Мышь связана с «мелькающим движением» и «быстрым ускользанием». Еще греки, напоминает Волошин, видели в «быстром убегающем движении» мыши «подобие вещего, ускользающего и неуловимого мгновения»[63]. Но все дело в том, что «мгновение» для Волошина – не точка или единица для счета времени (он, как и Введенский, последовательно борется с пространственными представлениями о времени). Внутри себя мгновение обнаруживает собственную длительность и полноту. Внутри горизонтальной последовательности и смены наших психических состояний, причинно-следственных связей и т. д. мгновение вдруг открывает иное измерение – трансцендентальную вертикаль: «Сознание нашего бытия, доступное нам лишь в пределах мгновения (то есть в пределах актуального настоящего. – Г.А., В.М.), является как бы перпендикуляром, падающим на линию нашего пространственного движения ‹…›. Счет этих точек сечения линии ее перпендикуляром создает возможность нашего механического счета часов. Каждый перпендикуляр является поэтому для нашего сознания дверью в бесконечность, раскрывающуюся во мгновении». Поэтому «аполлонический сон покоится на дне мгновения», а мышь обладает божественной природой: «Время – вечность, напряженная и вечно движущаяся сфера внутренних интуитивных чувствований, которая нашему логическому сознанию представляется огромной горой тьмы и хаоса, потрясается до основания, и из трещины рождается бесконечно малое мгновение – мышь. Гора рождает мышь так же, как вечность рождает мгновение»[64].