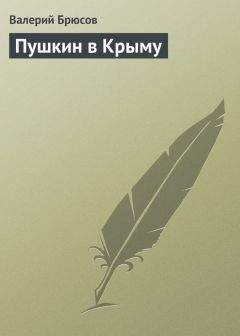Капитолина Кокшенева - Революция низких смыслов
2
Далеко не сразу откроется смысл хитроумной ловушки еще одной работы ермоловского международного театра-Центра — спектакля «Снег недалеко от тюрьмы». Автор, Н. Климонтович, замахнулся поставить еще больший рекорд по сравнению и с «Нашим Декамероном». В основе его пьесы лежат… евангельские заимствования — пьеса держится на параллелях со Священной историей. Все ее герои названы именами праведных и благочестивых людей. Только действие перенесено в наши дни и протекает «недалеко от тюрьмы», где в освобожденной для жилья камере живут коммунальной, сиротливой, дикой и беспросветной жизнью Захария и Елизавета (библейская пара, родители Иоанна Предтечи), Мария — беременная, одинокая женщина, прибывшая неизвестно откуда и соединенная с Иосифом-Осей. (Из Священной истории выдернута ни много ни мало как Благословенная и Благодатная Матерь Божия, обрученная отроковицей Иосифу-плотнику.)
Очень бы хотелось думать, что соединение Священной истории, давшей нам навсегда благодатные образы, — соединение их с современным материалом, напоминание о них необходимо драматургу затем, чтобы возвысить и даже оправдать нашу бедную жизнь; найти хотя бы слабый лучик света в замученных современницах наших — Марии и Елизавете… Увы… Перед нами снова взгляд на женщину, скорее родственный «Нашему Декамерону» — взгляд холодный и безжалостный. Снова поругание женственности, осквернение материнского тела, циничное предъявление его как «куска мяса» для мужской похоти. «Да по мне все равно от кого беременеть, — говорит разудалая Лизавета, — от этого, от этого… Придет время и из тебя твой кусок вывалится». Насилует Марию милиционер Захар после родов. Что циничнее и гнуснее можно было придумать?! Вот вам и Священная история в современном прочтении — «насилуют Богородицу»! Это уже самое настоящее оскорбление святыни, самая настоящая пакостная хула. За это следовало бы отвечать, но, господа, у нас теперь нет ни цензуры, ни самоцензуры… Было это все, было в практике западного театра. И там точь-в-точь так же надругались над святынями — «насиловали хлеб» как символическое тело Христово. А мы и еще дальше пошли — изобразили насилие над Материнством безупречной высоты и чистоты. Так припадает современное искусство к тому, что от века полагалось областью светлой и навсегда благодатной. Насыщение ее языческой чувственностью в безбожном XX веке вызывает умиление «интеллектуализмом» подобных сцен у одной части публики, и полное, от незнания, недоумение — у другой. Одним ударом семерых: и святыню осквернили, и материнское, женственное, богородичное в женщине.
«Там никого нет» — вот к какой точке приведет героев автор. В этом и состоит страшный эффект спектакля. Знает автор, что Дева Мария святая и непорочная. Знает, да святости не любит и с вызывающим цинизмом стремится к ее уничтожению. Вот, мол, в самом гнусном падении героев тоже есть своя «святость». От самого гадкого растления можно очиститься. После безграничного унижения и осквернения тела можно все равно припасть к чистым истокам женственности. Не лукавьте, господа сочинители! Нельзя! Нельзя обрести Бога на дне Бездны и тем путем, что предлагаете вы: чтобы очиститься, нужно непременно очень низко упасть и окунуться в последнюю мерзость. Будто и нет другого пути.
Очевидно, режиссер и автор пьесы полагают, что религия исчерпала себя и не в состоянии дать сильных переживаний, какие доставляла нашим дедушкам и бабушкам. А потому только шокирующая трактовка Евангелия дает нужные сегодня «сильные переживания», способные конкурировать с возможностями видео, кино, телевидения. Религиозное потрясение нам предлагают заменить шоком. И не только в театре. Но, если первое — всегда потенция добра, второе — разрушительно и отрицательно. Религиозная тематика налагает двойную ответственность на художника и раскрывается только перед очами веры. Только очами веры видим мы святыню иконы, Благодатность и Непорочность Богородицы. В спектакле «Снег недалеко от тюрьмы» акценты сделаны на человеке. Таком человеке, который если и хочет видеть святость, то лишь затем, чтобы калечить ее, осмеивать и компрометировать.
Православие не презирает тело. Напротив, оно утверждает бережное к нему отношение, ибо тело — дом для души. Оно утверждает тело «в онтологической сущности, подлинности и святости» (о. С. Булгаков). В христианском мироощущении предлагается «просветление плоти» — превращение «натуральной и греховной в православную». В современном искусстве, на столичной сцене нам предлагается отрицание плоти, глумление над ней. унижение тела насилием и продажей. Разливают соблазн, рисуют обольстительность тела и утверждают, что женственность «постигается только через способность блуда» — вот кредо новой сцены.
* * *
Я глубоко убеждена в том, что не такая уж и значительная прослойка общества интересуется грязной эстетикой коммерческих спектаклей. Разглядывать в бинокль артистку Догилеву идут прежде всего новоявленные толстосумы. Театр же очень заботится, чтобы не слишком огорчать дорогую публику действительно серьезными проблемами. Лишь легкой перечной приправой станет социальная проблематика к «сложному блюду» — спектаклю, в котором… чуть секса, чуть…религии, чуть…блуда, чуть…сплетен.
Свела женщину с ложного пьедестала драматургия «новой волны», вкрадчиво пообещав наконец-то сказать о ней правду, что отнюдь не производственная роль есть предназначение женщины. И столь же явно вывели женщину из круга семейного, не воспев, а раздев женщину на сцене. Они не хотели и не хотят воспеть, они не решили и не решат «женской темы», ибо сама постановка вопроса о женщине в современном театре безнравственна. Безнравственен и ответ. Они не запутались, как считают многие, в нравственных и безнравственных критериях — они просто не знают, что нет и не может быть никакой иной нравственности, кроме христианской.
Сегодня именно Церковь и Православие могли бы стать реальной опорой для выпрямления женщины. Но и тут, как мы видим, раньше всех успели к теме прибежать передовые деятели, соединив эрос и религию, секс и сияние. Беднее или богаче стала ты, моя современница, если не можешь прямо сердцем понять, что брачное — второе после монашеского — благолепное состояние человека? Если слово о святости семейной жизни, «слово о христианской семье как идеале христианского нравственного совершенства» ты не слышала? Счастливее ли ты стала ты, моя соотечественница, без освящения брака твоего благодатию и скрепления узами церковными? Когда муж будет во Христе — то и жена ему Церковью будет. Вот истоки другого отношения к женщине. Вот защита женщины от «Их Декамерона». И опора обоим. Мужчине и женщине.
1991
Бунтливый протопоп
«Соборяне» Н. С. Лескова на сцене Московского драматического театра имени Евг. Вахтангова
Пустое пространство ничего не обещало. Три стены декорации, не претендующие на архитектурную законченность смысла, со скошенными входами-отверстиями, подпирали театральное небо Вахтанговской сцены. А на сцене должна была бы протекать — мирно и ладно в своей провинциальной простоте — жизнь старомодного покроя людей. Героев романа-хроники Н. С. Лескова «Соборяне». Но, как известно ничто и рождает Ничто. Как тут расположиться душой к длинной истории восхождения протопопа Туберозова от церковной службы к служению, от догматической проповеди к живому голосу жаркого проповедничества? Стены помогают, но не голые. Конечно, мы давно привыкли к тому, что на нашей сцене нет декораций, нет бытового закрепления жизни — русского уклада ее. Привыкли, что Лескова играют как Беккета, и Островского — как Ионеско. Все одно! Пустое пространство…
И актеры научились приблизительному, «вообще», актерскому самочувствию. Лишенные опоры, питательных токов правды от «населенной» предметами-вещами сцены, мчатся они по воле режиссера к какой-то часто не осознаваемой цели. Ни на минуту не останавливаясь, не задумываясь, не делая передышки-паузы — да и то правда, в насквозь «продуваемом», сиром и нагом «месте действия» не очень-то хочется задерживаться.
А место действия спектакля «Соборяне» театра имени Евг. Вахтангова нельзя сказать, чтобы было совсем не известно современной сцене: провинциальный Старгород 70-х годов прошлого столетия. Какой русский писатель в ту пору не говорил о провинциальной жизни?! Тургеневских и чеховских провинциалок в современном театре лучшие актрисы играли… Новые здесь — герои. «Соборян» Лескова не ставили на советской сцене. Не переиздавали романы «Некуда» и «На ножах». И причины замалчивания ясны: атеистическим аршином не измеришь жизнь русского священства, старогородской поповки; да и духовные лица с времен «демократизации искусств» 1917 года сначала выпускались на сцену только в компании «нечистых» — врагов мировой революции, а потом и вовсе были со сцены изгнаны. Революционно-демократическая критика, трактующая классическое наследие в духе борьбы за прогрессивное общественное устройство, натолкнулась на такую твердую и доказательную уверенность писателя Лескова в революционном блудомыслии, в аморальности нигилизма и межеумье прогрессистов, что перед ней попросту отступила. Оставили Лескова в «покое». Все силы были брошены на Достоевского — благо он был во всем мире признан. Долгие-долгие годы выстраивалась усилиями многих интерпретаторов «система толкования» его творчества в рамках атеизма.