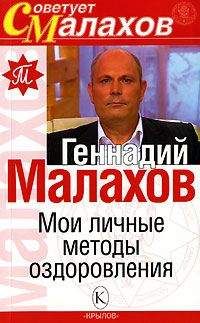Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
8.
Эти заметки не имеют в предмете истолковывать фрагменты «Лауры» или подробно их комментировать: после романоподобных паразитических комментариев профессора Кинбота к поэме Шейда (в «Бледном огне») было бы комично печатать стостраничный разбор вдвое меньшего текста — особенно если помнить, что перед нами «роман à clef, в котором clef потерян навсегда». Довольно того, что мне пришлось сделать более шестидесяти примечаний, без которых нельзя было обойтись, но которым нельзя было и позволять подниматься выше известной ватерлинии.
Вот пример одной такой дилеммы: уже на второй карточке читаем о показаниях (или признаниях, или даже завещании: testament) «спятившего невролога, что-то вроде Ядовитого Опуса, как в том фильме». Какой опус, в каком фильме? Странно было бы вовсе ничего не сказать, но нелепо и занимать две полустраницы разъяснениями и предположениями. Теперь все справки добываются (и едва ли не тотчас забываются) не отходя от экрана, поэтому любопытный читатель, пошевелив пальцем, легко и скоро отыщет, если захочет, изложение фильма Гонзалеса (1972) по «Овальному портрету» По. Этот коротенький его раз-сказ в первой публикации в 1842 году назывался «Жизнь в смерти»: жена, позируя мужу художнику, умирает, а ее портрет выходит «как живой» — до ужаса. Сюжет этот был, конечно, известен и до «Портрета» Гоголя, и после «Портрета Дориана Грея» Вайльда (мимолетное сближение имен). Другой кандидат — старый немецкий фильм Фрица Ланга «Показания д-ра Мабузе» (Das Testament des Dr Mabuse, 1933), где много подходящих нам деталей; или еще один из дюжины фильмов по Стивенсонову «Д-ру Джекилю и мистеру Гайду» (но там не видно «опуса»). Или вот буффонада Мела Брукса «Франкенштейн-младший», появившаяся в 1974 году, т. е. именно когда была начата «Лаура»: там невропатолог едет в замок дедушки Франкенштейна и находит «опус» с описанием экспериментов и т. д. Впрочем, и это последнее предположение не очень убедительно.{178}
Текст позволяет, даже приглашает предпринять немало куда более увлекательных экскурсов. Но для таких далеких плаваний не пришло еще время. Мы не знаем главного: геометрии неосуществленной книги, ее обводных и соединительных каналов.{179} Сопоставляя подробные описания опытов Вайльда над собой с упоминанием о какой-то необыкновенной смерти героини, списанной с его жены, можно предположить, что здесь в некотором смысле подразумевается Пигмалион навыворот: ваятель, превращающий живую Галатею в мрамор. Загадочные слова о неуверенном в себе, нервном повествователе, который пишет портрет своей любовницы и тем самым ее уничтожает (карточка 61), получают под этим углом зрения неожиданно важное значение.
Слово «уничтожить» (obliterate) вообще самое последнее слово на последней карточке последнего сочинения Набокова, карточке, где выписаны в столбец синонимы этого понятия. Мы не можем знать наверное, отчего Набоков хотел, чтобы уже написанная часть будущей книги была уничтожена: из одного ли нежелания «показываться на публике в халате», т. е. из артистического тщеславия, или оттого, что при приближении смерти человек иначе, может быть, смотрит на любые «Энеиды», и на «Мертвые души», и на собственные свои черновики — особенно на собственные черновики.
9.
Филипп Вайльд умирает от инфаркта, по-видимому, у себя дома. Напомним, что в каждом романе, начиная с «Защиты Лужина» и во всех последующих (за двумя, может быть, исключениями), Набоков водяным знаком помещает и варьирует почти без развития тему неощутимого, но деятельного участия душ персонажей, умерших в пределах повествования, в судьбах еще действующих в нем лиц, с которыми их при жизни связывали отношения кровные или сердечные. Однажды подержав книгу Набокова на просвет и увидев контур этой темы, потом уже не можешь не проверять ее наличия и в прочих и не отмечать ее переходящих характерных признаков. Это какой-то странный, односторонний спиритизм, действие которого совершенно неощутимо для тех, на кого оно направлено, и может быть распознано только наблюдателем извне, и то по обретении известного навыка. Часто читателю подается факт смерти такого духовода как бы невзначай, косвенно, особенно если она случилась в плюсквамперфектум, но ее-то, может быть, и должно держать в уме для понимания не только высшего сюжета, но и высшего замысла романа. Притом у Набокова никогда не бывает, чтобы читателю показывалась самая смерть крупным планом, в физически наглядном описании, как это заведено, например, у Толстого.
Известный, и уже не раз приводившийся здесь афоризм Набокова, что «смерть [в романе] — вопрос стиля», может быть весьма плосок или очень глубок, в зависимости от угла зрения.{180} Но даже если смотреть под прямым углом, то как далеко вглубь замысла Набокова можно заглянуть, имея на руках только публикуемые здесь отрывки? Иными словами, уготована ли факту смерти одного из главных действующих лиц романа некая корректирующая роль в ходе повести, в участи Флоры или ее литератора-любовника? В свете вышесказанного понятно, что не о смерти как таковой речь, а вот именно о возможных последствиях посмертного участия духа Филиппа Вайльда в небезразличных ему земных делах и судьбах. Многое тут, конечно, зависит от того, к какой части романа относится карточка 94, где говорится о его «фатальном сердечном приступе» в одном предложении с известием о похищении последней главы рукописи Вайльда — вполне вероятно, той самой главы, где описывается, как он мысленным ластиком собирается коснуться своего сердца.
Стилистически смерть может быть и «fun», но едва ли это слово приходило умирающему Набокову на ум в больничной постели в Лозанне. Но даже и в романах нездешние заботы у него отличаются от здешних. Что за этой горизонтальной строкой, так странно приблизившейся? В третьем его по счету романе необычайная, как по заказу для Лужина созданная и к нему ладно подогнанная и приставленная безымянная женщина, появляется около него тотчас по смерти его отца, словно по мановению его духа (она все время напоминает мужу, что надо бы навестить могилу Ивана Лужина в Тегеле), и ей почти удается оттащить его от края упоительной и мрачной бездны. Сам же Набоков, вскоре после смерти отца, познакомился с удивительной, таинственной, отнюдь небезымянной женщиной, которой писал в 1923 году, что когда они с ней в очередной раз были на кладбище, где похоронен В. Д. Набоков, он очень ясно почувствовал, что она все знает, знает, что будет после смерти, — и оттого он так с нею счастлив. Это написано за полтора года до их женитьбы, и они жили счастливо (особенно по меркам века) до самой его смерти, заглядывая скорее в Ломоносовы бездны, которые раскрываются не под ногами, а над головой.
Пушкин перед женитьбой, в последних строках скорее разом приконченного, чем оконченного «Онегина», следуя своим тогдашним мыслям, не имевшим отношения к роману, неожиданно для читателя называет жизнь праздником, с которого хорошо уйти рано, отставив недопитый бокал, и проч. Пушкин был слабостью Набокова, но эта мысль была ему совершенно чужда, он не знал уныния, многообразный шум жизни не томил его тоской, и ее дар был для него не только не напрасным, но всегда заново удивляющим и радующим и до слез неслучайным. Он упал чуть ли не дословно «с небесной бабочкой в сетке, на вершине дикой горы»,{181} но умер через два года на больничной постели, и незадолго до конца, по словам его сына, прослезился о том, может быть, что уж не увидит лёта этой бабочки, а не о том, что книга его не кончена; о том, что кончена жизнь, что ему нужно разстаться с ней — а «не с Лаурою своей».
Приложение I
Берег Женевского озера
Окно с видом на комнату
1.
В продолжение последних пятнадцати лет она все более сокращала свои выходы и выезды, и они делались все реже, и наконец она ограничила передвижения пределами апартамента из двух комнат в бельэтаже доходного дома на rue des Charmilles в центре Женевы. К тому времени она привыкла смотреть изо дня в день некоторые дежурные зрелища французской телевизионной программы: сначала только известия о новостях (в то время она желала верить, вместе со многими, что «Горбачев спасет Россию»), потом представления, в которых нужно угадывать слова по составляющим их буквам, в подражание американскому «Колесу Фортуны», а потом она увлеклась нескончаемыми водевилями с нанизанными на одну очень длинную и белую нитку гирляндами сюжетов, которые в некоторых русских кругах называли «мылодрамами».
Как-то раз мой приезд к ней в гости совпал с расписанием этих «эпизодов», и она, слегка смешавшись, попросила меня извинить ее двадцатиминутное отсутствие, потому что ей хотелось не пропустить важного поворота сюжетной дорожки. Меня это, конечно, никак не могло смутить, напротив, я был тронут этим свидетельством доверия, видя, что она уже не полагала нужным скрывать маленькую слабость. Пока она смотрела, я подошел к окну.