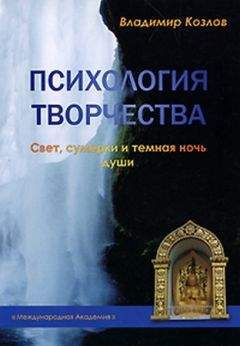Р. В. Иванов-Разумник - Творчество и критика
В новых формах прежние вопросы: «как распутать нить? (Бальмонт). И на новых путях-прежнее поражение. Когда художник-футурист рисует корову, шествующую по скрипке, ему кажется, что он этим побеждает «вещь», едет «верхом на вещи», как Заратустра. В мире вещей скрипка и корова так далеки и различны, в мире творчества художник соединил несоединимое, победил «вещь»! И ведь как раз наоборот: не победа это, а полное поражение, бессилие преодолеть «вещь» внутренне. Конец клубка вещей спрятан глубже этой поверхности, глубже даже, чем думали до футуристов:
И что мне помешает
Воздвигнуть все миры,
Которых пожелает
Закон моей игры?
«Законом моей игры» может быть сочетание коровы и скрипки, но этим не преодолел я ни «скрипки», ни «коровы». Преодоление в том, как изобразить. За давнишнюю «Скрипку» Пикассо, за недавние «Скрипки» Петрова-Водкина я отдам сотню былых «футуристических» скрипок и коров. А вот «Скрипка» В. Маяковского-совсем недурна:
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась,
так по-детски,
Что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
…………………………………….
……….Я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
Я вот тоже
Ору —
а доказать ничего не умею…»
Он прав: в этом его свойство, — не доказывает, «орет». Но ведь и задача художника-не «доказывать», а «показывать»: а чем и как-на то многие есть пути. Е. Гуро хотела распутать «клубок вещей» перетончением символизма; В. Маяковский хочет достичь этого же огрублением, нутряным «оревом», «истошным криком». Е. Гуро вся была в «романтизме», в мистике, в теософии; В. Маяковский всему этому чужд, он «наивный реалист», и он надрывается от крика, чтобы сброить «вещь», сидящую на его шее.
Оба пути-закончились пока что провалом. А вот, в слову сказать, и обратный пример величайшего художественного достижения, распутывания «клубка вещей»: «Котик Летаев» Андрея Белого, подлинного символиста, сумевшего «оседлать вещь». Но это только к слову, для контраста, а теперь обращаюсь к «оседланному вещью» В. Маяковскому, этому громкоголосому Хоме Бруту русской литературы. Какие заклятия голосит он, чтобы избавиться от «ведьмы», и кто побеждает в конце концов в этом неравном поединке? Кто он: «Старик с кошками» (из его же трагедии «Владимир Маяковский»), который трусливо ежится:
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
— или «Человек с растянутый лицом» (оттуда же), который недоуменно вопрошает:
А, может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?
Удалось ли ему в своем творчестве «оседлать вещь», или «вещь» бесповоротно оседлала его самого?
V. «Оседланный вещью»
Он давно понял, что «оседлан»; весь смысл его трагедии «Владимир Маяковский»-в этом.
В земле городов нареклись господами,
лезут стереть нас
бездушные вещи…
И вот-вещи взбунтовались: «сейчас родила старуха время огромный криворотый мятеж». Сперва-отдельные вспышки бунта: то «по крышам затанцовали трубы», то «музыкант не может вытащить рук из белых зубов разъяренных клавиш», (вот это-не корова на скрипке, это подлинно хорошо), то «даже переулки засучили рукава для драки». И вдруг-
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человечьих ляжек!
Пьяный,
разинув черную пасть,
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes».
Каждая калоша недоступна и строга…
Об этом «радостно» сообщает «Человек без глаза и ноги». Радостно-ибо перевернулся порядок вещей, корова зашагала по скрипке, «пришло начало новой поры, открылись страны». Здесь-«революционность» футуризма, ненависть к обыденному, культурой набальзамированному, постоянному. Но революционность эта-внутренняя или внешняя?
Преображение мира, о котором говорил символизм, провозглашается теперь и футуризмом. Вещи ли взбунтовались и оседлали человека, или человек творчеством своим преобразил вещи? В сильной «вещи» В. Маяковского «Человек» (заглавие так и гласит: «Человек. Вещь») он сам говорит о человеческом творчестве, преображающем мир: «чтоб зимы в лето, воду в вино превращать чтоб мог-у меня под шерстью жилета бьется необычайнейший комок…»
Ударит вправо-направо свадьбы,
Налево грохнет-дрожат миражи.
И «стоногий окорок» прачек в мокрой прачешной обращается в «дочерей неба и зари»; булочник, «мукой измусоленный ноль»: и вдруг-«и вдруг у булок загибаются грифы скрипок»; сапожник, прохвост и нищий: «взглянул-и в арфы распускаются голенища»… И все это-
Это я
сердце флагом поднял,
Небывалое чудо ХХ-го века!
«Небывалое»-вздор; весь символизм (да что символизм! всякое искусство, творчество) на этом строится, говорит теми же словами о претворении воды в вино; у Ф. Сологуба есть и рассказ об этом чуде в Кане Галилейской. Но символизм презирал «вещь», смотрел сквозь вещь и за это был оседлан призраком вещи; футуризм же хочет ощупать руками и «булки», и «грифы скрипок», и «голенища», и «арфы». Он «материалистичен», не в переносном смысле, и зато уже не призрак вещи, а сама «вещь» оседлывает его широкую спину.
Когда «тринадцатый апостол» этого нового «евангелия вещи». В. Маяковский, порывает с былой поэзией, культурой, религией, когда он, «невероятно себя нарядив», идет по земле, «солнце, моноклем вставив в широко растопыренный глаз», а впереди «на цепочке Наполеона ведет, как мопса», — то вот, казалось бы, скинута им со спины ведьма-Панночка, освобожден он в столь новом и гордом виде от ветхого Адама. Но тут же показывает он, сам того не желая, что в прежнем рабстве он у ведьмы, что солнце моноклем и мопсовидный Наполеон на цепочке не могут скрыть собою внутренней сущности бурсака Хомы Брута. Ибо когда он в таком наряде идет по земле, «чтоб нравился и жегся», то как же ведут себя «вещи», которых ведь надо любить, у которых ведь «душа другая»? А вот как:
Вся земля поляжет женщиной.
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Не преодолел «вещи» тот, кто так чувствует и говорит; не покоритель он, а покоренный; не победитель, но раб. Не стряхнуть ведьму-«Вещь» с уставшей шеи такими заклятиями. И недаром вечная усталость, вечная боль-удел этого криком кричащего Хомы Брута русского футуризма.
И не случайность этот омерзительный образ сюсюкающих «вещей». Стоит лишь вглядеться, как чувствует поэт вообще «вещь», город, природу, мир. «Улица клубилась, визжа и ржа; похотливо взлазил рожок на рожок»: вот картина города. Образы сильные, кричащие, часто запоминающиеся: трубы крыши «в неба свившиеся губы воткнули каменные соски»; «рогами в небо вонзались дымы»; «в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей». Но общее чувство города у поэта до назойливости однообразно: «лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок»; в ресторане-«кресла облиты в дамскую мякоть» (а прежде, помните, у Ал. Блока: «По вечерам, над ресторанами»!.. Грубо и правдиво рисуется изнанка былой поэтизации, не менее страшной и в прежнем обличии). Не город-«адище города», где
…скомкав фонарей одеяла.
вечь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому ненужная, дряблая луна.
Пусть все это ненавистно поэту, пусть с болью и отчаянием кричит он все это в глухую стену города («кричу кирпичу, слов исступленных вонзаю кинжал в неба распухшего мякоть»…), но ведь иным он ничего и не может (оседлан!) увидеть вокруг.
Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река-сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне…
Так он видит и другого, повторяю, увидеть не может. И твердо сам знает: он-поэт именно этого города! «Все эти провалившиеся носами знают: я-ваш поэт!»
Ибо это-он ненавидит (как ненавидят себя), но и но иного-не видит. Хома Брут, даже оседланный, все-таки видел в былые времена, как сквозное покрывало тумана дымилось по земле, как месячный серп светлел на небе, как спали с открытыми глазами леса, луга, небо, долины. Ныне, для Хомы Брута футуризма вместо всего этого-«квакая, скачет по полю канава, зеленая сыщица, нас заневолить веревками грязных дорог». Для него небо-«шершавое, потное небо», «распухшая мякоть», а тучи-«отдаются небу рыхлы и гадки». Для него — то «вздрагивая, околевает закат», то «туч выпотрашивает туши кровавый закат мясник»… Для него-«еще не успеет ночь-арапка лечь, продажная, в отдых, в тень, на нее раскаленную тушу вскарабкал новый голодный день». Для него солнце-сумасшедший маляр, он то подымает рыжую голову, «запекшееся похмелье на вспухшем рте», то «обсасывает лучи в спячке». Для него, наконец, вся вселенная-«спит, положив на лапу с клещами звезд громадное ухо»…