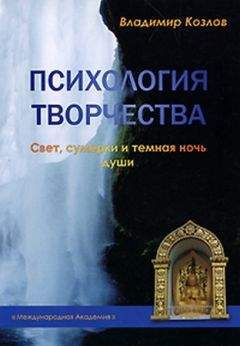Р. В. Иванов-Разумник - Творчество и критика

Обзор книги Р. В. Иванов-Разумник - Творчество и критика
ИВАНОВ-РАЗУМНИК
ТВОРЧЕСТВО И КРИТИКА
Статьи критические 1908 — 1922
ТВОРЧЕСТВО И КРИТИКА
Часто приходится слышать, что вопросы психологии творчества-то самое шеллингианское «Абсолютное», в котором, по язвительным словам Гегеля, все кошки серы… Не буду спорить с этим: да, психология творчества-пока еще темная область; но напрасно думать, что она темна только для теоретически изучающих ее. Полно, так-ли? Не еще ли темнее она для самого «творящего», для художника?
Когда я вчитываюсь в любое из выдающихся произведений литературы, то мне всегда припоминается одно место из «Горе от ума». Помните слова Софьи про Молчалина и ответ Фамусова: «шел в комнату, попал в другую… — Попал или хотел попасть?» — Ну так вот, мне думается, что всякий большой художник совершенно непроизвольно всегда «падает в другую комнату», пройдя через ту, в которой был намерен остановиться… Софья сказала неправду: Молчалины попадают-и в жизни и в литературе-именно в ту комнату, в которую идут: возьмите всю умеренно-аккуратную, среднюю, рядовую беллетристику, публицистику, поэзию-какое умение попадать в заранее намеченную цель! И возьмите истинного художника-какое подчас страстное желание ограничить себя определенными рамками, и какое бессилие, какое неумение сказать только то, что было сознательно задумано!
Яркий пример этого я сейчас приведу, а пока замечу, кстати, вот что: если все это так, то отсюда выясняется и задача критики. Что для нее важнее определить: куда художник «попал» или куда он «хотел попасть»? Конечно, важно и то и другое, и нельзя пройти мимо вопроса, что хотел сказать художник в своем произведении; но бесконечно важнее другая задача критики-определить не то, что хотел сказать художник, а то, что он сказал и высказал, быть может, сам того не подозревая, не сознавая.
Темная область-психология творчества; но, во всяком случае, в ней твердо установлен один существенный факт: в процессе всякого художественного творчества сознательное я часто вверяет себя руководству подсознательных элементов. Я даже так скажу: быть может, чем больше влияние этих подсознательных элементов, тем больше художественная и всякая иная значимость произведения. Не подумайте, что я собираюсь воскресить старую романтическую теорию поэтического «экстаза», «вдохновения», при котором художник сразу начисто пишет под диктовку свыше и не в права переменить ни одного слова в написанном, иначе-де это будет «мертвая рефлексия». Конечно, нет. «Творчество» состоит далеко не в одном бряцании рассеянной рукой по лире, но и в мучительном труде воплощения образов в слово: «и слово плоть бысть»… Вспомните черновые тетради Пушкина. Все это так. Но вот яркий пример объяснит мою мысль: Толстой. Толстой, беспощадно марающий и десятки раз переделывающий свои произведения, с удивлением признает в своем творчестве власть этих непроизвольных, подсознательных элементов. Письма, дневник, заметки Толстого шестидесятых-семидесятых годов-что за материал для понимания «творчества»! Напомню его удивительное письмо к Страхову (26 апр. 1876 г.), в разгар работы над «Анной Карениной». Толстой пишет: «…каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно-словами описывая образы, действия, положения… Меня занимало это последнее время. Одно из очевиднейших доказательств этого было для меня самоубийство Вронского…; этого никогда со мною так ясно не бывало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять-и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо»…
Вы видите: Толстой-«шел в комнату, попал в другую». Весь этот эпизод бесконечно ценен, крайне характерен, но все-таки это сравнительно мелочь, деталь произведения. Возьмите шире: примените ко всему роману то, что автор говорит об одном эпизоде; возьмите глубже: отнесите к философской сущности произведения то, что автор говорит о его фабуле-и вы увидите, что всякий большой художник не может не «попасть в другую комнату», иногда сознавая, иногда не сознавая этого. Думал-ли Пушкин о глубоком философском смысле своего «Евгения Онегина»? Всегда-ли сознавал Достоевский, до каких глубин он доходил? Но лучший пример-опять-таки Толстой: он не только не сознавал, он даже отрицал глубочайший философский н религиозный смысл двух своих романов-«Войны и Мира» и «Анны Карениной». Как понимал Толстой эту свою грандиозную эпопею? Он считал, что эти романы отвечают только на вопрос «как жить?» и обходят молчанием вопрос «зачем жить?»; он считал, что, потеряв в сороковых годах веру в Бога, а в пятидесятых-веру в человечество, он остался совершенно без руля и без ветрил и беспомощно повис в пространстве, как гроб Магомета; тогда то и были написаны «Война и Мир» и «Анна Каренина». Неужели же это так? Неужели два великих произведения мировой литературы написаны в период духовной и идейной беспомощности автора? Одно из двух: или литература, в таком случае, есть действительно пустая забава, детская побрякушка, «грациозная ненужность», по выражению самого же Толстого последних лет; или Толстой ошибался, считая себя в эпоху «Войны и Мира» и «Анны Карениной» совершенно лишенным всяких запросов о цели бытия. К счастью для нас и для него, он ошибался и в том и в другом случае: «шел в комнату, попал в другую»… Цельная и глубокая философия, яркая религия жизни видна на каждой странице этих романов, совершенно независимо от воли и намерения их автора. Он «хотел сказать» в них только то, «что для меня было единой истиной, — пишет он:-что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше…» Только это он «хотел сказать»; а надо ли напоминать, что действительно «сказал» он этими романами! И не прав-ли я: какое неумение, какое бессилие сказать только то, что было задумано! Великий художник (да и всякий истинный художник) бьет всегда мимо цели и дальше цели; пусть это парадокс, но в этом парадоксе-истина: в нем неизбежное свойство всякого истинного творчества.
Возвращаюсь снова к критике и ее задачам. Повторяю, главная задача критика-определить, куда «попал» художник, а вовсе не куда он «хотел попасть». Конечно, и с литературными Молчалиными бывает, что они попадают, с позволения сказать, пальцем в небо; но и в таком случае, раз критика почему-либо занялась этим явлением, — ее главная задача остается прежней: указать, куда метил автор, и вскрыть, куда он попал. Пусть окажется, что бесталанный автор-простите за вульгарность-«целил в ворону, а попал в корову», или наоборот, — задачей критики и является показать это. Но это только черная работа, неизбежная для подневольного критика: кому охота по доброй воле раскапывать задний двор литературы? Иногда эта работа необходима, но работа эта отрицательного характера. Критик отдыхает и дышит полной грудью, обращаясь к истинному творчеству; но и тут задача по существу не меняется: надо вскрыть не что хотел сказать, а что сказал художник в своем произведении, что сказалось в его целом. Всякая бывает критика-эстетическая, психологическая, общественная, социологическая, этическая; и каждая из них необходима в процессе работы критика. Есть произведения, к которым достаточно приложить только один из этих критериев; но попробуйте ограничиться эстетической или психологической критикой, изучая «Короля Лира» или «Фауста»! Вот почему философская, в широком смысле, критика только одна может считаться достаточно общей точкой зрения. Определить «пафос», определить «философию», чаще всего бессознательную, художника и его произведения, определить, что им «сказалось», а не «говорилось»-вот, повторяю, главная задача критики; вне ее-критика либо «грациозная ненужность» (есть и такая), либо только накопление материалов для будущего здания философской критики. Опять напомню слова Толстого, из того же письма: «нужны люди, — говорит он, — которые бы показывали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства»… А для этого критика должна вскрыть внутренний смысл художественного произведения, должна разобраться в тех бессознательных или подсознательных элементах творчества, которые иногда дают окраску всему творчеству художника.
Итак, скажете вы, критик всегда, подобно Гамлету, должен «вести подкоп аршином глубже» художника? Глубже «Войны и Мира», глубже «Братьев Карамазовых»? О, конечно, нет-иначе критика была бы невозможна. Но задача критики-осознать неосознанное художником и вскрыть тот «подкоп», которым шел художник, ту подсознательную почву, на которой он строил. Когда Толстой писал и печатал «Анну Каренину», а бесчисленные фельетонисты-критики Ю qui mieux mieux истолковывали смысл его произведения, то Толстой иронически отозвался о них: «ils en savent plus long que moi». Конечно, все дело в таланте критика; но знаете-ли что? Мне думается, что в этой фразе Толстого ярко сформулирована вся задача критики: критика всегда должна savoir plus long, чем самый гениальный художник. Творческая интуиция художника подсознательна; критический анализ выявляет ее, ясно видит невидимое художнику: истинный критик должен savoir plus long, чем художник, иначе его «критика» не заслуживает этого имени.