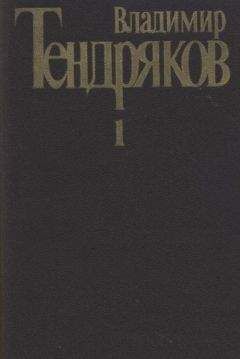Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
Милга — ученый с громким именем, член-корреспондент Академии наук, в каком-то институте руководит лабораторией биохимии. У него — самая большая в Москве из частных коллекция современной западной живописи. Он эрудит в этой области, не так давно высокие специалисты ездили за консультацией к нему. Теперь ездят неохотно — западная живопись, да еще современная, не в ходу. Эрнест Борисович с высокими специалистами обходится довольно холодно, любит молодежь — чем богемистей она, тем больше может рассчитывать на гостеприимство.
В первый раз Федор шел, как в храм, ждал — обступят его со всех сторон чинные полотна, тяжелые рамы в тусклом золоте, мудрые лики с портретов. Шел, как в храм, с молитвенным настроением. Одно то, что его, паренька из глухой деревни, вчерашнего солдата, принимает у себя в доме известный ученый, настраивало на серьезный лад.
А кроме того, этот ученый разбирается и в искусстве, а перед людьми искусства Федор — перенял от Саввы Ильича — готов рабски преклоняться.
И он был оглушен, ошарашен…
Да, по всем стенам картины. Да, многие из них под стеклом, в тяжелых позолоченных рамах. Но какие картины!..
Полотно. На нем зигзаги, кровавые восклицательные знаки, круги, кубы, линии — мешанина, хаос до сотворения мира или, наоборот, хаос после всемирного крушения, после Страшного суда.
Полотно. В углу глаза, в другом углу нос и ухо, руки, искривленные, как от проказы, губы, зубы, дым!.. Оказывается, всего-навсего портрет.
И еще полотно… Написано гладко, добросовестно. На спеченной, потрескавшейся земле — дохлая лошадь с раздутым брюхом и поднятым копытом. На копыте сидит нарядный мотылек. И цвет паточный, желто-розовый, сладкий, трупный. Кажется, в комнате спертый воздух — ну и ну, любуйся до блевотины. Ничего не поделаешь — сюрреализм, — есть и такое направление в искусстве.
Хозяин тогда на минуту задержался в другой комнате, не сразу вышел.
Федор с нетерпением и робостью ждал его. Что это за человек, который может наслаждаться дохлой лошадью, из часа в час, изо дня в день глядеть и вспоминать запах падали? Нормален ли он? Верно, появится какой-нибудь издерганный сумасшедший — глаза налиты кровью, рот перекошен, слюна пузырится на губах. Может, сумасшедший, а может, шутник, явится с ухмылочкой — каково, мол, вас пугнул, хе-хе, храм, молитвенное настроение…
А появился приземистый лысый мужчина — из-под пижамы выступает брюшко, в разрезе ворота густо-волосатая грудь, маленькие женственные руки на тыльной стороне и на запястьях тоже волосаты, выбритый до морозной синевы подбородок суровой лепки и пристальные, покойные, навыкате глаза.
Протянул каждому руку, сказал просто:
— Здравствуйте! Здравствуйте!
При цепком пожатии пытливо заглядывал в зрачки, словно приценивался: кто ты есть, сколько стоишь по человеческой расценке? Поздоровавшись, спокойно уселся под поднятое копыто дохлой лошади, увенчанное нарядным мотыльком.
А Федор испытывал болезненный разлад в душе: нормальный, по всему видать — умный, член-корреспондент академии, не шути… Как понять? Чем объяснить, почему он серьезно относится к своим диким картинам? Легче бы себя чувствовал, если б смог отмахнуться, — туп, ограничен, манерничает. Нормальный, а всерьез принимает сумасшествие, — где логика? Федор страдал, а вместе со страданием росло звериное любопытство.
Высшей похвалой Эрнеста Борисовича была фраза: «Свежинкой попахивает». Те из молодых художников, чьи работы удостаивались этой похвалы, сразу же испытывали на себе горячую благосклонность любителя ультрановых направлений. Их картины Эрнест Борисович покупал, вешал на видное место рядом с холстами прославившихся на Западе мастеров. Правда, эта благосклонность не отличалась постоянством. Через какое-то время Эрнест Борисович открывал нового гения. «Свежинкой попахивает…» И расхваленные недавно шедевры перевешивались куда-нибудь в угол, покрывались пылью, а потом исчезали совсем.
Лева Слободко написал недавно широкое полотно — «Гибель аса». От края до края все пространство занято кубиками, означавшими город с высоты птичьего полета, а над ними — белая спираль падающего самолета. Форма новая, подоплека реальная — «свежинкой попахивает». И Леве Слободко раскрыты объятия, его друзья всегда желанные гости в доме Эрнеста Борисовича, для них — накрытый стол, водка на столе, книжный шкаф, забитый монографиями о художниках всех времен и народов.
Здесь, в комнатах, покрытых коврами, можно не смущаться разбитых ботинок, под которыми остаются лужицы растаявшего снега. Разбитые ботинки, залатанные штаны, обтерханные карманы — неизбежная принадлежность созревающего таланта. Лева Православный пользовался большим уважением хозяина, чем Вячеслав Чернышев, на котором костюм всегда сидит щеголевато.
И конечно, здесь — полная свобода слова. Считается — почетно сокрушать авторитеты. Можно, если сочтешь нужным, обложить и самого хозяина. Но хозяин и сам зубаст, говорит негромко, вежливо, взвешивая и оттачивая каждую фразу.
Сейчас он вышел, сияя розовой лысиной, торжественно выставив свой сурово-сизый подбородок, кривя сочные губы в улыбке:
— Милости прошу. У меня есть повинна… Сборник самых последних работ, выпущенный в Лейпциге. Очень любопытно…
Конечно, очень… Тесно уселись вокруг низкого журнального столика, Лева Слободко на правах признанного гения — в свободной позе, перекинув ногу на ногу, выставив на обозрение громоздкую меховую пиму. Лева Православный все норовит зарыться носом и очками в книгу. Федор ревниво оттесняет его плечом:
— Ну-ка, сдай назад. Ты не один.
Прямо в затылок Федору дышит Вячеслав. Он провожал на вокзал фронтового дружка, от него тянет спиртным. Иван Мыш чинно сложил на коленях руки, теснит ноги в сторонку, но все-таки занимает много места. Эрнест Борисович с невольным почтением разглядывает его широченную спину и налитый кровью загривок.
Эрнест Борисович терпеливо ждет…
В книге, в красных и черных тонах, — человек с распоротым животом, оскаленное лицо, вывалившиеся внутренности. Что там лошадь с поднятым копытом!
Болезненный разлад в душе Федора. Такие картины печатают. Значит, они кому-то нравятся, доставляют наслаждение. Что-то дурное происходит в мире. Что?.. В искусствоведческих статьях об этом говорят походя, словно огрызаются: «Растленное искусство». Но почему растленное? В чем причина? Расскажите! Раскройте! Нельзя жить в неведении! А ученые-искусствоведы наставляют: учитесь у классиков, вот Шишкин, вот Васнецов, — полюбуйтесь, как хорошо: заросшие пруды, лесные опушечки, былинные богатыри… Романтизм в рамках приличия, реализм, понятный и уютный, как хорошо разношенный ботинок. И вопит человек с распоротым брюхом… Это не у нас вопит, это там, за границей, — для нас не страшно. У нас полное благополучие и покой… Вопит человек, вывалились внутренности… Тот, кто может любоваться этим, непонятен, как житель Марса. А любуются, восхищаются, раскупают дорогие книги… Вопит оскаленная рожа… Судя по их картинам, там, за кордонами, по улицам бегают толпами помешанные, кусают друг друга, заражают бешенством. Но ведь этого нет — и там нормальные люди. Нормальные люди и ненормальное искусство! А почему? В чем причина?
Федор оттесняет плечом подслеповатого Леву Православного. В затылок сурово дышит Вячеслав Чернышев — он тоже взволнован, тоже расстроен.
А под поднятым копытом раздутой лошади, в окружении странных, неистовствующих, не земных, а каких-то чудовищно марсианских картин сидит Эрнест Борисович Милга, щурится, позевывает, скребет волосатую грудь. Он спокоен, он ждет терпеливо первого слова. Первое слово — сигнал к спору. Тут же Эрнест Борисович займет свое место в компании.
2Первым подает голос Лева Слободко. Даже ему, видать, стало не по себе.
— Все-таки слишком… Вот оно — вырождение реализма. Скатились к воспеванию распоротых животов. Лишнее доказательство, что будущее за абстракционизмом.
— Тех же щей, да пожиже влей, — подбрасывает Вячеслав. — Что абстракционизм, что вот это, как его, сюр — одинаково несваримо.
Эрнест Борисович зашевелился, вместе с креслом отодвинулся от стены, поближе к компании.
— Пора бы знать, что человеческий желудок изменился, не принимает сырого мяса, — авторитетно обрезал Слободко.
— Сырого не принимает, зато падаль с ароматами — пожалуйста, — Вячеслав кивнул на дохлую лошадь.
— Мой милый питекантроп, твой каменный век кончился, — объявил Слободко. — Если раньше наивного человека умиляло тщательно изображенное перышко или пуговичка, то теперь он знает, что точнее, лучше художника его изобразит объектив фотоаппарата. К черту конкретность! Нужна мысль в чистом виде.
— Хотел бы я видеть, как выглядит портрет маслом, скажем, такой мысли: «Я человек, и все человеческое мне не чуждо».



![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)