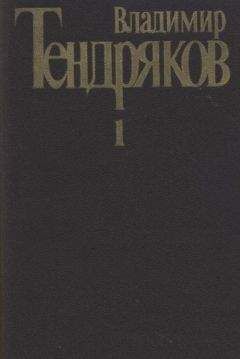Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
Хозяева дома — дед, дочь, внучка — эстафета поколений. Дед высокий, седая, в голубизну, голова, черные, густые, строгие брови. На желтом, измятом мелкими мягкими морщинками лице — тихая, предупредительная доброта. Глядя на его кроткие вылинявшие голубые глаза, на невнятную скорбинку в складке блеклых губ, становилось неловко за всю ту грубость, к какой ты прикасался в жизни. Тебе случалось сквернословить, видеть, как убивают людей, видеть кровь, трупы, спать в грязи, искать вшей в нательной рубахе. Казалось, этот человек ничего такого не знал, прожил святым. Но это только казалось. Что-что, а кровь и смерть, наверно, видел и он, и видел немало. Он был врачом, основал большую поликлинику в этом поселке, когда-то его имя пользовалось известностью, теперь на пенсии, обременен старческими недугами, не выходит за калитку, забыт всеми.
Дочери его — лет сорок, она тоже врач в отцовской поликлинике, у нее пугающие суровостью брови, носит короткую прическу, одевается неряшливо, говорит резко и решительно, напоминает делегаток-общественниц двадцатых годов. Вечерами она приходит усталая, с запавшими глазами, молчит… Штука робел перед нею, пожалуй, не меньше, чем перед Мишкой Котелком, прячущим в кармане финку.
Третий член семьи — внучка, девчонка лет тринадцати, — круглое румяное лицо, льняные волосы, как у матери, острижены коротко, по-мальчишески, чистые голубые глаза… Для нее появление рабочих-маляров — событие.
Федор и Штука, почти не сговариваясь, решили не затевать никаких новшеств:
— Умоем дом, омолодим — и дело с концом.
Работали не спеша, проникновенно, не заботясь о времени, невольно подчиняясь покойному ритму старого дома, для которого день или месяц — одинаково малые величины в вековой жизни.
И была какая-то успокаивающая прелесть в том, чтобы за трещинами, копотью, пятнами, за грубой побелкой, сделанной каким-то случайным маляром-халтурщиком, за всеми старческими морщинами угадать молодое лицо дома, осилить время, повернуть вспять.
Лепное украшение на потолке все покрошилось, по Федор по следам, по жалким остаткам лепки понял рисунок и долго торчал на стремянке, возился с алебастром — восстановил.
Штука сказал одобрительно:
— Ты — парень с соображением.
А старик хозяин грустно сменился в лице:
— Я его по детству помню, только по детству… Давно забыл, и прочно. Как вы догадались, что оно именно так выглядело? Вы чудодей.
Федор был горд.
Возле них постоянно вертелась внучка старика, следила, как во дворе разводили купорос, как сдвигали с места многими десятилетиями не тревоженную мебель, как Штука на плите варил вонючий клей. У нее под светлыми ресницами мягко лучились глаза, в изгибе тонкой шеи — что-то хватающее за душу, доверчиво-ласковое, в пухлых губах — перешедшая от деда добрая складочка. Девочка ходила за Федором как собачонка, поминутно заглядывала в глаза, ждала чудес. Федор наслаждался этой привязанностью.
За книжным шкафом он нашел лист твердой и желтой, как слоновая кость, бумаги — она, кажется, так и называлась в свое время — «слоновая», приколотил ее драночными гвоздями к двери, которую обрабатывал для шпаклевки.
— Садись, — сказал он девочке, — нарисую тебя.
— А вы умеете?
— Умею.
Штука охотно бросил работу, пристроился рядом.
Девочка уселась, натянула на колени подол юбки, смешливо фыркнула и застыла, пугливо мигая ресницами.
У Федора под рукой был огрызок плотницкого карандаша, который оставлял на бумаге туманно-мягкие, широкие штрихи и почти невидимые ломкие линии. На глаза под ресницами легла тень, щеки, волосы чуть намечены, губы сдерживают рвущуюся наружу улыбку…
Шаркая сваливающимися с сухих ног тапочками, вошел старик. Постоял, кашлянул смущенно и тоже присел рядом со Штукой. Штука хвастливо объяснил:
— Талант… Все может… На улице парня нашел.
У меня глаз наскрозь видит.
Старик не ответил. Слышно было лишь, как нервно шуршит по бумаге карандаш. Девочка, пораженная вниманием взрослых, посерьезнела, перестала кривить губы в улыбку, но на бумаге так и осталось — губы сдерживают смешливость.
— Да, талант, — согласился старик.
— На улице себе помощника подцепил…
Набросок был мягок, скуп, пластичен, но в нем не хватало чего-то ударного — слишком гладок и ровен, как прописная буква, написанная без нажима.
Федор сунул в карман плотницкий карандаш, из бумаги скрутил жгутик, набрал на кончик сажи из тюбика, досуха вытер, тронул глаза под ресницами — и глаза стали темными, лучистыми, глубокими.
— Ах ты жучок охристый! — восторженно стукнул Штука кулаком по тощему колену.
— Да, талант, — снова повторил старик.
Внучка, сорвавшаяся со стула, стояла перед своим портретом, пунцовая от гордости. Удачу портрета она принимала как свою собственную.
— Вы не подарите его нам? — попросил старик.
— Это ее собственность, — кивнул Федор на девочку.
— Теперь в моей коллекции — последний портрет. Наверняка последний…
Старик привел всех в свой кабинет, уютный и еще более старомодный, чем любая из комнат этого дома. Чуть ли не треть его занимал письменный стол, тяжелый, как саркофаг, — вещь, преодолевшая время.
На вытертом сукне этого стола старик рассыпал старинные миниатюры, рисунки, не менее старые фотографии на паспарту с вытисненными изображениями фирменных медалей — всё портреты, солидные мужчины с бородами, с бакенбардами, в вицмундирах, сюртуках, женщины с оголенными плечами, с кокетливо-зазывными взглядами.
— Так сказать, генеалогическое древо в разобранном виде, — сообщил старик, — но не дворянской семьи, а семьи русских интеллигентов. — Он задумчиво перебирал портреты, лицо его стало потусторонне отрешенным — ушел в прошлое, на минуту забыл о гостях. — Меня не интересует генеалогия в чистом виде, выкапывать признаки родовитости — глупое занятие… Мне любопытно, как развивалась одна из маленьких веточек рода человеческого и какие она давала побеги. На одних росли плоды, другие оставались пустоцветами… Вот…
Старик взял в сморщенные руки миниатюру в овальной рамке, на ней — широколицый человек в вицмундире со светлыми пуговицами.
— Вот — корень. Мой прапрадед. Он был крепостным парнем, плотничал, уже в зрелые годы барин-либерал заставил его учиться на архитектора, и он преуспел, построил несколько церквей, вышел на волю, наплодил детей и дал начало династии интеллигентов… Один его сын стал известным горным инженером, второй — врачом, третий — пьяницей по профессии, пьяницей и босяком, позором и несчастьем для всей семьи… А вначале он подавал большие надежды, профессора восхищались его математическими способностями, предрекали — быть ученым. А он стал ходить по трактирам, за рюмку водки издевался над теми, кто подносил, почему-то людям это нравилось… Мне кажется, у него первого из семьи проснулась воспаленная совесть — не захотел жить в достатке, когда кругом нищета. Математикой воспаленную совесть не выскажешь, а он не был литератором, не стал, увы, Достоевским. Больная совесть — несчастье и достоинство русского интеллигента. Лучшие из моих предков болели совестью. Моего двоюродного дедушку сгноили в Александровском централе — был народником, связан с террористами, пытавшимися убить царя, чуть ли не лично знал Желябова. Он тоже мог бы спокойно и обеспеченно жить, тоже подавал большие надежды как медик. Больная совесть… А вот поглядите на этот портрет… Вам, наверное, интересно знать — работа известного художника Кустодиева…
Федор ухватился за портрет — да, работа мастера, скупая, точная, шишкастый лоб, борода Короленко, широкий плебейский нос и печальные глаза стареющего Христа.
— Мой отец… Он не собирался бросать бомбы под царские кареты, не ходил в народ, не участвовал в боях на Красной Пресне… Он всю жизнь был простым земским врачом, пользовался уважением таких профессоров, как Бехтерев… Не чеховский Ионыч — всю жизнь с больной совестью, всю жизнь воевал с паршой, чесоткой, косностью. Воевал без всякой надежды победить — его больница была крошечным островком среди океана грязи и невежества. Кустодиев был его другом, он нарисовал отца незадолго до смерти. Отец уехал на эпидемию дизентерии, заразился и умер. Умер от нечистоплотной, унизительной болезни. Люди, погибающие такой негероической смертью, скоро забываются. Никто не помнит теперь моего отца… А вот человек пришел в нашу семью со стороны — мой зять, муж моей дочери, отец Оленьки, которую вы только что нарисовали. Он был вирусологом, он уж замахивался на рак, быть может, стал бы одним из тех, кому в конце концов удастся свалить эту страшную болезнь. Но началась война, он одним из первых записался в ополчение, записался, хотя был освобожден по близорукости, хотя в жизни не держал в руках винтовки. Впрочем, винтовку, он, кажется, не держал до самой смерти, умер с лопатой, когда рыл окопы… Рядом с ним в землянке жил какой-то художник-дилетант, увы, не Кустодиев. И этот художник погиб, а портрет нам переслали незнакомые люди… Больная совесть… И у дочери моей та же фамильная болезнь. Она везет на себе поликлинику, работает с утра до ночи, ей нет и сорока, но поглядите — старуха. Девочка, заболевшая неизлечимым нефритом, злокачественная опухоль мозга у рабочего парня — вся жизнь из трагедий, постоянное напоминание о собственном бессилии. Мне кажется, непробиваемо здоровая совесть — не что иное, как отсутствие ее…



![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)