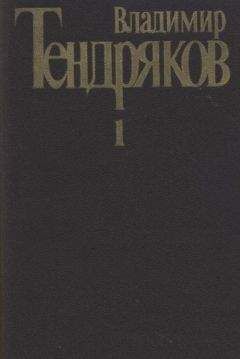Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
— Армия Спасения на мою бедную голову, — произнес Эрнест Борисович.
Все обернулись к нему.
— Один заподозрил меня в скудности мышления, другой — силой навязывает нравственность, — продолжал Эрнест Борисович. — Я, быть может, недостаточно умен и не совсем нравствен, но ум я как-нибудь приобрету, читая научные книги, нравственность прививается законами морали. Кстати, моим нравственным багажом я обязан не великим художникам, а моей доброй маме, которая, увы, не была сопричастна ни к какому виду искусства.
— Вам хочется просто нюхать духи? — спросил Вячеслав.
— Когда я покупаю билет в консерваторию на концерт Чайковского, то меньше всего думаю, чтобы получить за свои десять рублей пуд лишней нравственности или килограмм общественно полезного ума. Я иду, чтоб насладиться. Моя жизнь становится красивой, приятной, заполненной. А если это произойдет со всеми, то можно ли сомневаться, что композитор и исполнители совершили общественно полезное дело? Тот, кто способен доставить наслаждение народу — не низменное наслаждение, а высокое, — такая же социально полезная фигура, как прогрессивный философ.
— А это вы повесили тоже для наслаждения? — спросил Вячеслав, указывая на картину — дохлая лошадь с поднятым копытом.
— Она по-своему действует на меня, — спокойно ответил Эрнест Борисович.
— И как? Приятно?
— А разве только приятное заставляет наслаждаться? В ваши годы я уходил из МХАТа в слезах, перестрадавший, измученный и благодарный за эти мучения. Перед следующим спектаклем я снова стоял в очереди за билетами. Есть наслаждение в бою…
— В бою, в действии, в жизни! Но если человек наслаждается видом падали, то я неизбежно начинаю подозревать в нем наличие патологического извращения.
— А скажите, чем приятны кровавые злодеяния леди Макбет? Всякий нормальный человек в жизни старался бы избегать такого, а на сцене смотрит, деньги платит, и не потому, что рассчитывает поумнеть или возвыситься нравственно. Ему интересно, доставляет удовольствие. Назовите это извращением.
— Мне интересны действия леди Макбет — действия, жизнь, а не распухающие в могиле трупы ее жертв.
— Все дело в привычке. Когда-то ценителей искусства мутило от вида босоногого мужика на картине. Здесь… — Эрнест Борисович обвел рукой стены, — разные направления, и вы все их отметаете?
— В общем, все, — согласился Вячеслав.
— Не считаясь с тем, что многим это доставляет неподдельное наслаждение?
— То-то меня и поражает.
— Это потому, что вы, мой молодой друг, — ровесник моему отцу, петербургскому присяжному поверенному Борису Моисеевичу Милге.
— Снесу, — согласился Вячеслав. — Меня называли и ровесником питекантропа.
— Я, например, — продолжал Эрнест Борисович, — но могу пользоваться душевным комфортом моего отца. Для меня — сумерки, стожки, овечки, деревеньки, вся эта дедовская аркадия — анекдот с бородой. Скучно! Я живу в век с сумасшедшинкой, а потому и мой душевный комфорт должен быть с бесноватинкой. Видите ту картину? Не большую, поменьше…
— Вижу. Бесноватинка умеренная, — ответил Вячеслав.
— И она вам не нравится?
— Сначала скажите, что это?
— «Испанский танец».
— Почему? Откуда это видно?
— Не задумывался. Сочетание черных, красных, желтых пятен напоминает вихрь одежд испанок.
— Почему именно испанский, а не цыганский, не алжирский? Почему именно танец, а не пожар в кустарнике? Тоже ведь похоже. Впечатляет просто бесформенное сочетание цветов. Да, да, и меня впечатляет, и мне нравится. С удовольствием бы голосовал, чтоб наш ширпотреб выпускал такой расцветки галстуки и драпировки на окна.
— Ага!
— Но тогда ваше искусство потеряет право глубокомысленно называться абстрактным, а примет свое законное название прикладного конкретного искусства.
Лева Слободко взвился с места:
— О! Чушь! Баста!
— Доставлять наслаждение похвально, но этого мало, Эрнест Борисович!
— Вече, ты профанируешь!
— Вот, вот, — торжествовал Вячеслав. — Слышите, Эрнест Борисович! Этому прогрессивному деятелю мало доставлять одни лишь услаждения. Хочется большего. Только не знает — чего?
— Свести абстракционизм к драпировочным коврикам — мещанская башка способна такое придумать!
— Старик, чиновник остался без места, — провозгласил Православный.
— Ты-то что подпеваешь? — накинулся на него Слободко.
И Православный ощетинился:
— Спасибо говори, старик, в ножки кланяйся, что твой абстракционизм к делу пристроили.
— А музыка? — Слободко потрясал дюжими кулаками. — Музыка, черти, тоже абстрактна! Абстракт-на!
Эрнест Борисович попытался пробиться:
— Дайте мне сказать… Минуточку…
Какая там минуточка — над спутанной шевелюрой Православного качаются кулаки Левы Слободко.
— Музыку не только как подкладку приштопывают по ходу действия к кинофильмам, к словам песен! Музыка, остолопы, существует и в чистом виде!
— Изобразительное, старичок, изобразительное. Изображать можно не звук, не стон, не содроганье, а что-то вещественное.
— Нас-тро-ение! Самое неуловимое — настроение изображается!
Остро блестят очки Православного, зудяще отзываются оконные стекла на негодующий рев Левы Слободко, рассекают воздух увесистые кулаки. Эрнест Борисович без надежды просит:
— Минуточку…
Иван Мыш все время возвышался, как шкаф, как буддийский бог, только глаза бегают с одного лица на другое. Сейчас он, не меняя серьезной мины, деловито поднялся, шагнул к Православному, взял под мышки, поднял в воздух. Православный извивался и кричал:
— Музыку, старик, не подтасовывай. У каждого искусства своя специфика!..
— Остынь, не рыпайся. Человек спросить хочет.
Но в это время из-за дверей раздался голос жены Эрнеста Борисовича:
— Молодые люди, стол накрыт! Можно и за столом продолжать ваши милые диспуты.
…Чуть осоловевшие от выпивки и плотной закуски, шли вперевалочку по темным и уже опустевшим улицам. Погромыхивали в тишине ботинки Православного.
Слободко дулся на Вячеслава, выставив грудь из расстегнутого пальто, выступал индюком.
— Рассудить по совести, мы изрядные сволочи, — философствовал Православный, — напились, наелись, ковры истоптали, книжки посмотрели и мимоходом обложили хозяина — неумека ты, паршивый любителишка. Старик, ты не чувствуешь угрызений совести?
— Ничуть.
Вячеслав — шляпа набекрень, пальто застегнуто до подбородка, поступь враскачку — и ростом не вышел, и в плечах узковат, а встретишь — дорогу уступишь. Федор позавидовал: никогда не сомневается в себе, ни в чем не раскаивается, прет вперед, не стой на пути — прошибет лбом.
У остановки троллейбуса, под окоченевшей липой, Лева Слободко повернулся грудью на Вячеслава:
— Шабаш! Не возьму тебя больше к Эрнесту.
— Ай, ай, заплачу.
— Порог не переступишь, сукин сын.
Слободко навис над Вячеславом — выше на полголовы, массивнее, но Федору почему-то жаль его.
— Эх, простота святая, — Вячеслав широко улыбнулся в лицо Слободко. — Все еще ходишь в гениях? А ведь, пожалуй, теперь мой черед с Эрнестом на брудершафт пить.
Слободко стоял, распахнув пальто, смотрел круглыми, остекленевшими глазами.
— Знаешь что?
— Пока нет.
— Давно меня подмывает в морду тебе съездить.
И резко повернулся, толчками пошел прочь, полы пальто летели над подмороженной мостовой.
— Самый веский аргумент, — произнес Вячеслав, глядя вслед убегающему Слободко. — Иван Мыш, перейми опыт, у тебя большие данные.
Православный, ковыряя притоптанный снег носком ботинка, сказал:
— Эх, старик! Не хватает тебе чего-то. Мягкости, что ли.
И Вячеслав не сразу ответил, оглянулся на Федора;
— Ты тоже так думаешь?
— Есть, Вече, в тебе что-то от рельса.
Подошел троллейбус, ярко освещенный, заиндевелый, внутри по-ночному пусто и как-то грустно. Укутанная по глаза кондукторша с неохотой очнулась, выдала билеты.
Отъехали остановки три, прежде чем Вячеслав заговорил:
— Разве вы не чувствуете — мы раскалываемся? Один на одну сторону, другие на другую. В искусстве всегда стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг.
— Голос рельса, старик, голос рельса, даже Федька признал.
— Считайте как хотите. Нельзя торчать между баррикадами. Кончилось у нас со Слободко корешкование.
4Уже четыре года Федор стоял у мольберта, много холстов покрыто красками. Исполнилось двадцать шесть лет, лоб пробороздили морщины.
Каждое лето заглядывал в родную Матёру.
Мать, казалась, время не брало, по-прежнему распевала:



![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)