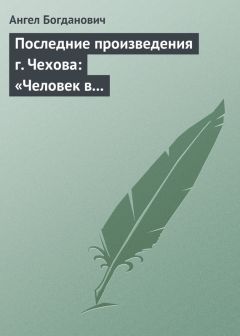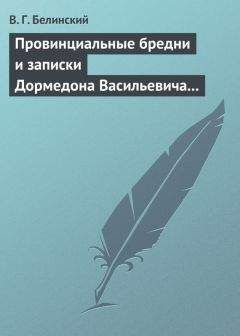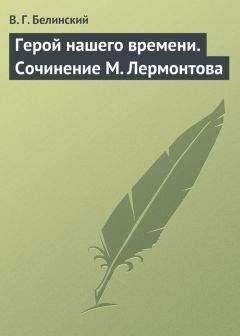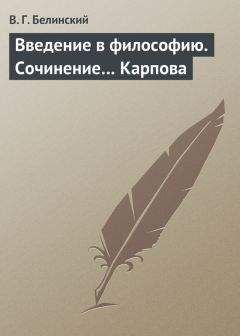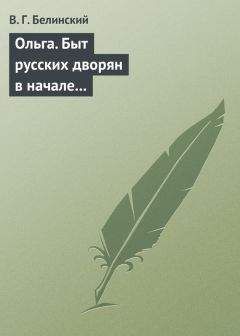Виссарион Белинский - Ледяной дом. Сочинение И. И. Лажечникова… Басурман. Сочинение И. Лажечникова
Самая лучшая сторона в романе – историческая, а самое лучшее лицо – Иоанн III. Душа отдыхает и оживает, когда выходит на сцену этот могучий человек, с его генияльною мыслию, его железным характером, непреклонною волею, электрическим взором, от которого слабонервные женщины падали в обморок… В нем мы снова увидели сильный талант г. Лажечникова. Он глубоко верно понял идею Иоанна и верно очертил его характер. Софии, супруге Иоанна, немецкий посол подарил попугая, которого хитрая и честолюбивая царица и научила называть своего мужа царем.
– Видно, вещая птица, господине, – отвечал хитрый царедворец, подставляя к окну скамейку, а потом под ноги великого князя колодку, обитую золотом, и ковер. Все это исполнялось по движению глаз и посоха властителя, столь быстрому, что едва можно было за ними следовать. Но дворецкий и тут не плошал. Откуда взялась прыть у хилова старика, в котором, по-видимому, едва душа держалась.
На полавочнике были вышиты львы, терзающие змея, а на антабасской (парчевой) колодке двуглавый орел. Эта новинка не избегла замечания великого князя: черные очи его зажглись удовольствием. Долго любовался он державными зверями и птицею; и прежде нежели сел на скамейку и с бережью положил ногу на колодку, ласково сказал:
– И ты ныне, старый пес, видно, сговорился с Фоминишной потешить меня.
Дворецкий низко поклонился, охолив кулаком свою ощипанную, остроконечную бородку.
– Ох, ох, – продолжал великий князь, – легко припасти все эти царские снадобья, обкласть себя суконными львами и алтабасными орлами, заставить попугаев величать себя, чем душе угодно; да настоящим-то царем, словом и делом, быть не легко! Сам ведаешь, чего мне стоит возиться с реденькой. Засели за большой стол на больших местах, да и крохоборничают: и лжицы не дают, и ковшами обносят, а всё себе сидят, будто приросли к одним местам.
– Что ж, господине, коли чести не знают…
– Так по шапке, да из-за стола вон! Воистину так, пора. – Пускай себе кричат: «Греха не ставит, родных обирает, даст на том свете ответ!» Нет, не дам. Прежде, нежели я брат, дядя, шурин, я государь всея Руси. Когда явлюсь на страшный суд Христов, он наверно спросит меня: «Печаловался ли ты о земле русской, над которою я поставил тебя владыкою и отцом; соединил ли воедино, укрепил ли эту Русь, хилую, разрозненную, ободранную?» Вот что спросит он, а не то что: «Пил ли из одново ковша с братьями и сватьями, тешил ли их, гладил ли по головке за то, что они с своими и чужими сосали кровь русскую!»
Иван Васильевич замолчал и посмотрел на дворецкова, как бы вызывая его на ответ.
Этот понял его и сказал с низким поклоном: «Пожалуй меня, господине, князь великой, своево слугу, молвить глупое слово».
– Молви умное, а за глупое скажу тебе дурака.
Опять поклон; Русалка приправил его следующею речью: «Вступающим в брак господь наказывает оставить отца своево и матерь и прилепиться к жене. В такой же брак вступил и ты, государь всея Руси, приняв по рождению и от святительской руки в дому божьем благословение на царство. Приложение сделай сам, господине. Умнее на твою речь сказать не сумею: я не дьяк и не грамотей».
– Грамота у тебя в голове, Михайло!.. Ладно…
Произнеся последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посох, и погрузился в глубокую думу. Так пробыл он несколько минут, в которые дворецкой не смел пошевелиться. Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел; нет, в них пролетел грозный дух брани. Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы.
Таким-то везде является у г. Лажечникова Иоанн III: ум глубокий, характер железный, но все это в формах простых и грубых.
Кроме того, описания приема послов, казней, политических операций Иоанна, разных русских обычаев того времени, составляют одну из блестящих сторон нового романа. Поэтических мест много; интерес везде поддержан. Не понимаем, для чего автор опять повел своих читателей в Богемию: роман кончился в Москве…
Заключая наш разбор уверением, что новый роман г. Лажечникова есть более, нежели приятный подарок для публики, обратимся к предмету, чуждому поэзии и самому прозаическому.
Мы хотим сказать слова два о новом, небывалом и до чрезвычайности странном правописании автора «Басурмана». Положим, что окончание прилагательных на ова и ева, вместо аго, яго и его, имеет свое основание и даже, когда к этому попривыкнуть, может быть принято всеми; что же касается до «может-быть», «можетстаться», «какскоро» и тому подобных – то мы не знаем, что и сказать об этом. Будь это принято всеми, тогда сбудется сказка о старухе, которая, заметив, что ее госпожа, колдунья, молодеет от какого-то эликсира, так несоразмерно хватила его, что сделалась семилетним ребенком…
С нетерпением ожидаем «Колдуна на Сухаревой башне»: [15] в этом романе автор снова будет в своей сфере и напомнит нам и «Новика» и «Ледяной дом». Кстати о напоминании: пользуемся случаем напомнить, от лица публики, даровитому автору, что за ним есть должок – и очень большой: на 74 стр. IV части «Ледяного дома» он обещал рассказать историю Линара и мужа Анны Леопольдовны, а на 75 про чудесную смерть С***вой и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде, под стеклянным колпаком, и пр.
Не легко отказаться от таких обещаний, и кому же будет писать, если писатели с таким талантом, как автор «Новика» и «Ледяного дома», будут оставаться только при обещаниях!
Примечания
Впервые – «Московский наблюдатель», 1839, ч. I, № 1, отд. IV «Критика», с. 1–26 (ц. р. 1 января; вып. в свет 21 января). Подпись: В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. III, с. 5–26.
Белинский придавал большое значение данной рецензии. Декларируя позднее свою «новую манеру» критических выступлений, в основе которой лежала ориентация на широкие круги читателей – не только на «знающих», но и на «незнающих», он с удовлетворением вспоминал о ней в письме Боткину от 3–10 февраля 1840 года: «Тебе жестоко не понравилась моя статья о Лажечникове в «Наблюдателе», вот такие-то статьи и буду писать. Их будут читать, и они будут полезны; а я чувствую, что совсем не автор для не многих».
Комментарии
1
Третий роман – «Басурман». До него были изданы «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (М., 1831; переиздание – М., 1833) и «Ледяной дом» (М., 1835; переиздание – М., 1838).
2
Намек на рецензию Н. Полевого на второе издание «Ледяного дома» («Сын отечества», 1838, № 10, отд. IV, с. 69–70), которую Белинский называет ниже «коротенькой библиографической статейкой».
3
Поэта-мечтателя Вильгельма Рейхенбаха вывел в своем романе «Аббаддонна» Н. Полевой. Роман вышел из печати в 1834 г., эпилог романа печатался в «Сыне отечества» (1838, № 7 и 10).
4
Ср. слова из письма Хлестакова Тряпичкину в первом издании «Ревизора» Гоголя (СПб., 1836): «Я сам по примеру твоему хочу заняться литературой. Скучно, братец, так жить: ищешь пищи для души, а светская чернь тебя не понимает. Хочется, наконец, чем-нибудь эдаким высоким заняться» (д. V, явл. 8).
5
О статье и карте Шарля Дюпена Белинский узнал, очевидно, из письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 23 (11) декабря 1826 г., напечатанного в «Московском телеграфе», 1827, ч. XIII, № 1, отд. I, с. 93. Тургенев писал Вяземскому, что в парижском журнале «Le Globe» «подавно была статья о темной и светлой или просвещенной Франции… К ней приложена и карта, иллюминованная по просвещению» (далее идет описание карты).
6
На первое издание «Ледяного дома» Белинский откликнулся коротенькой заметкой (Белинский, АН СССР, т. I, с. 238–239), в которой сообщал о своем намерении посвятить роману обстоятельную статью; намерение это он осуществил только при выходе второго издания (может быть, поэтому Белинский в названии данной рецензии при «Ледяном доме» поставил двойную дату: «1835–1838»).
7
Цитируется ч. I, с. 12–13; на последующих страницах статьи Белинский цитирует: ч. I, с. 91, 169, ч. III, с. 165, ч. II, с. 123–124, ч. III, с. 161–162.
8
Суждения Белинского о В. К. Тредиаковском, конечно, односторонни; они объясняются недостаточной в то время исследованностыо биографии и творчества этого писателя.
9
Продолжая высоко ценить лиризм «Ледяного дома» и позднее, в 1840-е гг., Белинский, однако, в статье «Русская литература в 1843 году» писал, что автор «Ледяного дома» «не довольно отрешился от старого литературного направления – видеть поэзию вне действительности и украшать природу по произвольно задуманным идеалам» (наст. изд., т. 7).
10
Белинский использует слова Хлестакова в передаче Анны Андреевны («Ревизор» Гоголя, д. V, явл. 7).