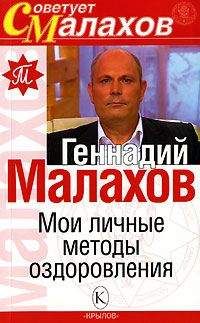Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
Непрерывный поток богатых метафор; то тут, то там вспышки свежих каламбуров и звуковых эффектов; ровное и скорое качение декламации и действия; отличная координация трех основных частей сюжета (дилемма Морна, мучение Гануса, лихорадка Тременса); осложнение в виде сверхъестественного ревизора (Иностранца) и всеохватывающего и всеразрешающего учения (Дандилио) — все эти и другие особенные черты и тематические линии трагедии Набоков потом перенес в свою прозу, где они развились и достигли того предела сложности и красоты, которым они знамениты. Таким образом, эта драма в стихах, с развернутым прозаическим описанием, есть узловая станция на пути от ранней поэзии Сирина к последовавшей тотчас серии его разсказов и затем романов. Отсутствие такой транзитной станции очень ощущалось, так как трудно было объяснить столь скорый и резкий скачок качества его писаний после 1923 года. То, что Набоков оставил эту вещь не опубликованной, интересно и быть может значительно само по себе, независимо от причин.
Бойд, еще прежде опубликования трагедии читавший ее в ремингтонированной рукописи, дает довольно подробное ее описание в первом томе биографии. Он, однако, недооценил одной интереснейшей особенности пьесы. То, что он принял за «подробный план», на самом деле есть сценарий в прозе, так сказать, попутное изложение, равновеликое самой пьесе (около восьми тысяч слов) и чрезвычайно важное для понимания ее замысла и главных свойств. По своему содержанию этот сценарий дает нам целую связку ключей к загадкам трагедии, тогда как по своему роду он представляет собою огромную сценическую ремарку автора-режиссера, которая может быть отстегнута от пьесы и читаться как образец отличной прозы. Собственно, каждое второе предложение выдает сильное желание Набокова бросить эти ремарки и отдаться прозаическому описанию, и он то и дело съезжает на привычное и удобное прошедшее повествовательное с поверхности драматического настоящего, и не может отказать себе в удовольствии набросать чудесный ландшафт, физический или психологический, и тогда лишь безыскусственность синтаксиса коротких предложений напоминает о том, что это все-таки сценарий, а не роман.
Я здесь не мыслю предлагать даже и беглого разбора «Трагедии»: читатель найдет массу сведений о ней в отличном комментированном собрании пьес Набокова.{150} Жаль, что на Западе этот разбор будет по-видимому отложен до появления перевода на английский язык, а этого, кажется, долго ждать, т. к. это весьма трудное дело. Кроме того, и самый лучший перевод неизбежно пригасит стихотворный блеск и тем самым сузит возможности изследователя, не знающего по-русски. О прочих не говорю.
Мне нужно только извлечь из пьесы несколько удивительных примеров действия той тройственной тематической системы художественного описания, которую я в первой части этого очерка определил как совокупность описания тварного мира, во-первых, внешнего, т. е. воспринимаемого пятью чувствами, возглавляемыми зрением, описания, обращенного к воспоминанию и воображению читателя; во-вторых, мира внутреннего, доступного психическому ощущению и нравственному суду, негласному, но вполне определенному у Набокова; и в-третьих, незримого и вообще недоступного чувствам мира иного, загробного, о котором герои книги обыкновенно не имеют никакого понятия, не говоря уже о правильном (т. е. задуманном их автором), но который приоткрывается читателю при «правильном», т. е. многократном, внимательном и сочувственном чтении. И вот я полагаю, что «Трагедия господина Морна» есть вместе и пример и доказательство того положения, что тематические приемы, главные маршруты и даже идеи Набокова пущены в дело, проложены и испробованы в самых первых его опытах. Здесь, в полнокровной трагедии, их очертания гораздо отчетливей, чем, например, в современной ей короткой и худосочной «Мести». И кроме того, в финале читателя ждет удивительное (для Набокова) открытое определение этого троичного начала, которое в свой черед определяет указанную тройственную систему, причем ямбически сжатую формулу этого определения дает до странного хорошо осведомленный Дандилио, один из двух самых значительных персонажей, помещенный как бы в солнечное сплетение пьесы. Нечего и говорить, что такие откровенные формулы вероисповедания, да еще произносимые такими многознающими, высокопоставленными героями, до крайности редко попадаются у Набокова, а такой твердости и ясности нигде кроме «Трагедии» не встречается.{151}
Трехъярусный полет
Обыкновенное у Набокова тяготение к метафорическому выражению и созвучиям, будучи прямым следствием поэтического навыка, разумеется, получает более естественное разрешение в стихах, чем в прозе. Грозди созвучий вроде «и грезой станет грязь» или: «но как мне оторваться / от своего же сердца? / я не ящер — не отращу» свисают в трагедии там и сям, куда ни посмотришь, на всякой странице. Вот несколько более сложный пример:
…Но в вине
есть крылышки пчелиные; в отраде —
есть для меня прозрачная печаль…
Ступенью выше, на уровне звуко-смысловых сочетаний, можно отметить «трескучий» звук, которым у Набокова иногда обставляется особенно трудное описание физического влечения; этот указательный шумовой эффект знаком читателю «Лолиты» и «Ады», но более всего «Волшебника», где он раздается там и сям, в конце повести сливается в настоящий лягушачий хор. И вот теперь можно видеть начало этого приема в «Трагедии», где Элла разсказывает о своем сне, в котором она была «новый белый мостик», хрустящий «под грубым громом / слепых копыт» Минотавра с лицом ее любовника Клияна, а позже этот громкогласый и напыщенный, но все же не вовсе лишенный дарования поэт прибегает к похожему щелканью и хрусту:
…Голодный гений мой,
тобой томясь, коробится во прахе,
хрустит крылами, молит…
В одном из последних своих русских сочинений Набоков воспроизводит этот очевидно лермонтовский образ, с тем чтобы задрапировать непристойное состояние души или тела своего героя («волшебник» едет за своей наградой на поезде): «Все равно где… все равно куда, только бы унести — и потеряться в лазури. …Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл». Что сравнение это не просто невинное поэтическое упражнение, ясно видно из того, что дама, сидевшая обок с ним, встала и поспешно вышла из купе, но он хотя и отмечает это, но, как и многого другого в своем повествовании, не может понимать.[5]
Полу-падая в полуобморок в первой главе романа, Пнин видит себя захворавшим мальчиком с обнаженной грудью, по которой передвигается, то и дело прижимаясь, «ледянящая нагота уха доктора и наждачная поверхность его [бритой] головы». В трагедии находим первую попытку возсоздать это детское воспоминание (Набоков вставляет здесь слуховую трубку между «ледяной наготою» уха и горячечной наготой тела):
Дуло —
в грудь. Под ребро. Вот сердце. Так. Теперь
предохранитель… Грудь в пупырках. Дуло
прохладно, словно лаковая трубка,
приставленная доктором: сопит
он, слушает… и лысина, и трубка
в лад с грудью поднимаются…
В «Алеппо», когда призрачная жена нового Отелло бросает его, он находит их комнату совершенно очищенной от всякого следа ее присутствия — кроме «розы на столе, …и не было в комнате решительно ничего, что могло бы дать мне хоть какое-нибудь объяснение, ведь роза была, конечно, то, что французские рифмачи называют une cheville».{152} Эта подробность долго дожидалась своей очереди появиться, наконец, на свет: вот как за двадцать лет перед тем стонет Морн, оказавшись в том же самом положении:
Все взяла…
И — словно в песне — мне остались только
вот эти розы: ржавчиною нежной
чуть тронуты их мятые края,
и в длинной вазе прелью, смертью пахнет
вода, как под старинными мостами.
Вообще в «Трагедии» имеются целые пласты сюжетного материала, которые Набоков снял как пластины дерна и пересадил в поздние свои книги. Кто, скажем, не узнает важнейшего эпизода «Бледного Огня» в отрывке, где говорится об открытии подземного хода, проложенного из дворца в дом любовницы короля (т. е. Мидии, жены Гануса)?
Клиян Ужасно…
Какая ночь была! Ломились… Элла
все спрашивала, где ребенок… Толпы
ломились во дворец… Нас победили:
пять страшных дней мы против урагана
мечты народной бились; в эту ночь
все рухнуло: нас по дворцу травили —
меня и Тременса, ещё других…
Я с Эллою в руках из залы в залу,
по галлереям внутренним, и снова
назад, и вверх, и вниз бежал и слышал
гул, выстрелы, да раза два — холодный
смех Тременса… А Элла так стонала,
стонала!… Вдруг — лоскут завесы, щелка
за ней, — рванул я: ход! Ты понимаешь, —
ход потайной…
Я понимаю, как же…
Он, думаю, был нужен королю,
чтоб незаметно улетать — и после к
рылатых приключений возвращаться
к трудам своим…
Родовое сходство обеих сюжетных линий делается еще разительнее оттого, что усыпанную брильянтами королевскую корону теряют и находят несколько раз, и всё при необычайных обстоятельствах: во время вооруженного поединка Морна с самим собой, в котором он побеждает ценой чести, самоуважения и короны; во время бунта, сопровождающегося по обыкновению таких предприятий хищным разбоем; и наконец, когда бунт раздавлен, корона попадает в руки Дандилио.