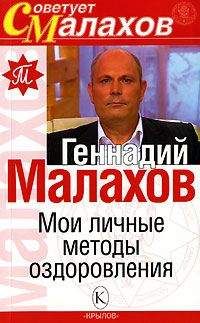Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
На малой площади начальных страниц Набоков будит и изостряет все чувства читающего, одно за другим, более всего полагаясь на нашу способность узнавать в образе вещи старого знакомца, на которого, однако, прежде не обращалось внимания, во всяком случае такого пристального, с каким этот образ здесь схвачен и описан. Двойное это требование к образу и его описанию (чтобы у читателя было ощущение старого и личного, но обойденного вниманием знакомства) почти всегда определяет выбор детали у Набокова. Запахи сирени, сенокоса, сухих листьев (начальный и сквозной свирест звучит в каждом из этих четырех слов), к которым сводится дачное лето для мальчика; сладко-чернильный вкус лакричных палочек под языком; плетеное сидение кресла, принимающее с «разсыпчатым потрескиванием» (воспоминательный слух) тучную француженку; осязательное зрение комара, который, «присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко»; шерсть плаща, щиплющая шею, — все эти образчики взяты на пробу из первых двух страниц книги (кроме последнего, взятого из пятой), и все пять чувств здесь с неимоверным искусством и разделены, и перевиты, и каждый оттенок восприятия ярок и правдив в своей единственной красе, — а в то же самое время каждый помещен на своем месте как некий межевой знак, потому что он будет отыскан и вспомнится (т. е. должен быть воспомнен и разыскан, если читатель достоин книги) потом, когда Лужин будет припоминать свои детские годы.
Все лучшие книги Набокова написаны в согласии с этой системой. Можно даже сказать, что самое его побуждение сочинять происходило отчасти из желания разрядить, выразить свою любовь на трех этих уровнях. Это, разумеется, справедливо для всякого так называемого творческого усилия, но Набоков изобрел свою систему, в которой точное описание воспринимаемой данности не просто ведет к высшим и более сложным фазам художественного изследования, но и является необходимым и непременно предварительным условием возможного в дальнейшем метафизического эксперимента. Согласно этой системе человек ненаблюдательный или равнодушный не может мыслить оригинально и сильно, и, например, профессор Болотов и даже профессор Пнин (несмотря на странные, грезоподобные интуиции последнего) гораздо дальше от крайних урочищ неведомого мира, чем профессор Круг или, скажем, поэты Кончеев и Шейд. Я полагаю, что столь неприятное для советских почитателей Набокова — и столь раздражительное для нелюбителей — его презрение к Достоевскому и отрицание оригинальности его мысли, не говоря уже об искусстве, проистекало из того неоспоримого обстоятельства, что Достоевский не умел и оттого, может быть, не желал замечать внешнего мира в его особенности и пренебрегал такими основными его данностями, обыкновенно с любовью выискиваемыми и изображаемыми и большими, и слабыми художниками, как пейзаж, погода, времена года, растительный ландшафт, хроматическое разнообразие мира, особенности наружности земли и человека. Набоков специально наделяет этим изъяном иных из своих пишущих персонажей, например Ивана Лужина или Ширина (из «Дара»), причем порок этот подается как калечащий прозаика неисправимо.
В своих Корнельских лекциях он делает в сущности верное допущение, что Достоевский чуть ли не с самого начала угодил в чуждый себе литературный жанр, ибо его плотно набитые диалогом книги не суть романы в строгом смысле слова, по которому искусство прозы есть собственно и прежде всего искусство изобразительное, но скорее страшно растянутые (по драматическим правилам) трагедии, причем попирается, — где безотчетно, где нарочно, — большинство драматических условностей.{145} На взгляд Набокова, романы Достоевского, если их представить в виде опытов драматического изучения обостренных или ущемленных состояний страждущей человеческой души, сами в художественном отношении страдают тяжелым увечьем, потому что все они — непроработанное сырье, художественно неприготовлены, некультивированы. Набоков твердо верил в то, что в художественной литературе психологический эксперимент не приводит к успеху, если нет того любовного внимания, каким человеческое восприятие обязано миру, чувствам доступному. Другими словами, невозможно изучать извращение в глубинах души человека, сокровенных от взора, если не можешь увидеть и изучить (т. е. полюбить) совершенства вокруг себя самого, в мире откровенном и взору, и прочим чувствам, потому что в наказание объявятся грубые ошибки и несуразности того как раз рода, из которого так раздраженно и наспех набирает совсем не лучшие примеры Набоков в своих лекциях.{146} Вымышленный мир, коль скоро он так неумело и наскоро построен, распадается при первом умелом тычке знатока, которому известны его слабые места.
2. Троичное начало
…Дав времени — воспоминанье, облик —
Пространству, веществу — любовь.
Жертва качества. Подземный ключ
Врожденные ограничения и вообще условности драматического искусства чужеродны художественному описанию с его наклонностью к подробностям, составляющим самое вещество прозы; вместо того драма предлагает диалогическую характеризацию и поэтапное, или даже поэтажное (пятиэтажное в трагедии), прыжками, движение и развитие одной или двух тематических линий. Этот род представляется особенно неподходящим для того изобразительно-созидательного, рема-тематического искусства, которого Набоков был страстный поклонник и редкий мастер. По этой собственно причине (но не только по ней) он бранил Достоевского за то, что тот превращал свои романы в раздутые до невозможности драмы, а как-то раз сказал, что отбрасывает в сторону современные романы не читая, если, перелистав их мякотью большого пальца, обнаруживает, что диалогов там больше, чем описательного изложения. Собственные его драматические опыты (все по-русски) с очевидностью доказывают, как неловко ему было, когда приходилось отказываться от повествовательных возможностей. «Писать для сцены было для Набокова все равно что играть в шахматы без ферзя», справедливо пишет Бойд (преувеличивая, впрочем, величину гандикапа).{147} Он пытался преодолеть старинные условности дерзкими новинками, но время от времени он предавался привычному повествованию от третьего лица, пускаясь в длинные предуведомления, сценические объяснения, ремарки, отступления, обращения к читателю (но не зрителю) — хотя, конечно, вся эта проза резко отличалась от обычного повествовательного регистра своим настоящим временем, укороченными фразами и каким-то словно из-под земли доносящимся, сдавленным голосом. Техническая изобретательность Набокова в этом деле достигла, кажется, своего предела в «Событии», лучшей его пьесе, но то же можно сказать и о прозаической ее части.
Тем ошеломительнее видеть, что в одной из самых ранних своих вещей — собственно, в самом первом своем большом сочинении, опубликованном только недавно (и в первом издании неисправно),{148} Набоков обнаруживает зрелое владение всеми художественными планами (о которых говорилось подробно выше): словесным, тематическим, композиционным, психологическим, и даже метафизическим. Такой сложности не предполагалось у него до «Защиты Лужина». Набоков писал «Трагедию господина Морна» в половине 1923 года и кончил в январе 1924-го. Пьеса эта представляет собою скороходную, полноразмерную, пятиактную лирическую трагедию белым пятистопным ямбом, невероятно высокого драматического и поэтического достоинства. По чисто выразительной своей силе она гораздо выше всего, что Набоков сочинил в стихах до нее, и в смысле общей художественной ценности она превосходит и его тогдашнюю прозу, за вычетом, может быть, одного «Картофельного эльфа», написанного в том же году, — да и то едва ли. Эта пьеса предъявляет чрезвычайные свидетельства технически зрелого и поэтически блистательного изложения и отличной постройки первого большого, многосоставного произведения Набокова.{149}
Самой оригинальной чертой этого неожиданного шедевра надо признать именно его жанр. Набоков обнаруживает не по возрасту мощное мастерство, и где же? не в прозе, но в драме, да еще и в стихотворной! А между тем он словно бы взялся доказать своей трагедией, что многие изобразительные средства, которыми располагает настоящий мастер прозы, могут быть пущены в дело и драматургом, если он изберет образцом своим поэта вроде Шекспира, Лермонтова или Ростана (называю ближайших по драматическому духу к «Трагедии Морна»), а не прозаика, который пишет пьесы по сознательному влечению (как Чехов) или безотчетно (как Достоевский).
Непрерывный поток богатых метафор; то тут, то там вспышки свежих каламбуров и звуковых эффектов; ровное и скорое качение декламации и действия; отличная координация трех основных частей сюжета (дилемма Морна, мучение Гануса, лихорадка Тременса); осложнение в виде сверхъестественного ревизора (Иностранца) и всеохватывающего и всеразрешающего учения (Дандилио) — все эти и другие особенные черты и тематические линии трагедии Набоков потом перенес в свою прозу, где они развились и достигли того предела сложности и красоты, которым они знамениты. Таким образом, эта драма в стихах, с развернутым прозаическим описанием, есть узловая станция на пути от ранней поэзии Сирина к последовавшей тотчас серии его разсказов и затем романов. Отсутствие такой транзитной станции очень ощущалось, так как трудно было объяснить столь скорый и резкий скачок качества его писаний после 1923 года. То, что Набоков оставил эту вещь не опубликованной, интересно и быть может значительно само по себе, независимо от причин.