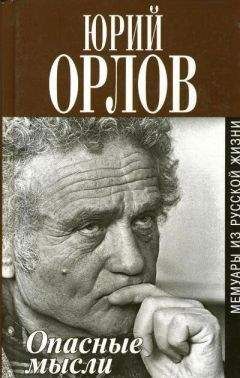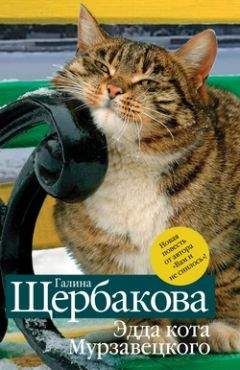Владимир Стасов - Перов и Мусоргский
Другой юродивый является у Мусоргского в его знаменитом романсе „Савишна“, всегда составлявшем восхищение лучших наших музыкантов. Все вообще романсы Мусоргского — сцены взятые с натуры, прямой результат того, что он сам видел и слышал, но этот романс одно из тех немногих созданий Мусоргского, происхождение которых нам документально известно. Раз в деревне, стоя у окна, он случайно увидал ту сцену, как безобразный полукалека юродивый объяснялся в любви с молодой бабенкой, ему приглянувшейся, любезничал с нею, а сам стыдился самого себя (все равно как „Зверь-чудовище“ объясняющийся в любви с красавицей купеческой дочкой в прелестной сказке Аксакова „Аленький цветочек“). Чувство, робкая покорность, самостыжение — глубоко трагичны и чудно прекрасны здесь в романсе. Мусоргского.
Вдобавок ко всем его типам и сценам, у Перова есть одно превосходное создание, где выразился тип, не тронутый Мусоргским. Это тип женщины „Юродивой“, рисунок из лучшего времени Перова (1872 года): юродивая сидит на углу улицы, должно быть в Москве, что-то ораторствует по-своему, и толпа почитательниц, баб, раболепно слушает ее дикие и нелепые глаголы. Это сцена поразительная.
Фигура, всегда очень близкая к народу, это полицейский. Перов и Мусоргский изобразили его всего по одному разу каждый, но великолепно. У Перова, это тот бездушный истукан, который сидит подле, вытащенного из воды тела „Утопленницы“ и тянет махорку из коротенькой трубочки, словно краденый тюк товара, снова им найденный, сторожит. Его калмыцкое широкое лицо, все истыканное оспой, его равнодушные глаза, его казенная поза — все это говорит о том человеке, который уже вполне выдрессирован, который „готов“ от головы до ног, и его ничем в мире не проймешь. У Мусоргского столь же великолепен этот тип, и столь же верен. Нужды нет, что это полицейский не нынешний, а живший триста лет назад — ничего не переменилось от этого. Он не сторожит никакого мертвого тела, но он сторожит целую массу живых человеческих тел, толпу простого народа, согнанного на площадь, чтобы Бориса Годунова упрашивать на царство. Ему надо только одно: чтоб эти человеческие рты кричали? и жалобно просили, чтоб колени были преклонены и руки протянуты, вперед, надо, чтоб это казенное дело было справлено. До всего остального, что в головах этой толпы происходит, пока некий торжественный исторический акт тут совершается, ему никакого дела нет, точь-в-точь как тому, изрытому оспой, калмыку в полицейской шинели, в картине Перова, и в голову не приходит помысла о том великом таинстве смерти, которое снизошло на эту бедную женщину, от отчаяния бросившуюся в воду.
Помещиков Перов и Мусоргский изображали не много раз, но характерно. При этом преимущество силы, выпуклости и разносторонности — на стороне Мусоргского. Замечательнейший тип помещика у Перова выставлен в его „Сельской проповеди“; это старикашка, ничтожный и темный, кроткий и смирный на вид, вероятно алчный и безжалостный „на деле“, и только. Намного сложнее и глубже тип старинного помещика, нарисованный Мусоргским в его князе Иване Хованском (в „Хованщине“). Это старик, на иное добрый и благодушный, на иное лютый, злой, беспощадный; надутый предками и безграничною властью, мирно бушующий в домашнем гареме, вспыльчивый до бешенства, ограниченный, трактующий все вокруг себя как прирожденное рабское холопство. Этот самый тип „помещика“ намеревался Мусоргский трактовать и в опере „Бобыль“, которой сценариум уцелел в его бумагах, и о которой мы вдвоем много совещались с ним скоро после „Бориса Годунова“. Иное было уже туда сочинено. Сцена „гаданья“ Марфы для князя Голицына в „Хованщине“ прямо взята из сцены „гаданья“ для старика-помещика в „Бобыле“. В этой опере должен был явиться „суд помещика“, у себя дома, при обстановке как у мирового судьи, над пойманным браконьером-бобылем (нечто в pendant к сцене „Приезда станового на следствие“ Перова).
III
Крупный и многозначительный отдел в ряду созданий Перова и Мусоргского составляет духовенство, черное и белое; но, как было и с «народом», изображенные личности принадлежат все к люду сельскому, захолустному, провинциальному. Столиц и в этом также отношении ни Перов, ни Мусоргский не затрагивали. Они писали только то, что было самого характерного и лично узнанного ими во время деревенской их жизни.
«Семинарист», это — один из самых великолепных типов, созданных Мусоргским. Многие сотни, а может быть и тысячи юношей из петербургской учащейся молодежи вот уже второй десяток лет восхищаются этой изумительной картиной с натуры. Всем им этот тип был близок, всем хорошо известен в действительности; здесь же он был воспроизведен с такою правдою, какую не часто встретишь в искусстве — всего менее в музыке. Порядочно уже взрослый болван, из поповских или дьячковских детей, осужден долбить латынь, до которой ему нет никакого дела, с которой он никогда не имел, не имеет и не будет иметь ничего общего, которая ему ни на что не нужна и которую он все-таки вынужден тирански вбивать себе в голову. Сотни лет прошли со времени первого заведения латыни в Заиконоспасском духовном училище в Москве, и ни одному из учившихся никогда еще не понадобилось, во всю их дьяконовскую или поповскую жизнь, сделать употребление из этой тяжко добытой латыни, и однакоже, несмотря ни на что, безумное толчение воды должно было продолжаться. Сколько проклятий, сколько ненависти и презрения, сколько упреков посылалось ей на сотнях концов России, в продолжение сотен лет! Какой мучительный хомут, какое уродование мозгов ненужным орудием пытки! И хоть бы через это что-нибудь получалось в результате. Так нет же, несчастные бурсаки, вопреки всей своей латыни и всей остальной схоластике, оставались темными, невежественными созданиями, без луча света в голове, без мысли и самостоятельности, оставались робкими и покорными, не играющими никакой роли в русской жизни, не народившими никакой высокой мысли, ни глубокого чувства в тех других, кому они должны были бы в продолжение всей жизни служить поддержкою, утешением и помощью. К чему же повела вся несчастная схоластика? Вот этот-то мир порчения живой натуры и искажения свежих сил должно было изобразить новое искусство. Оно это и сделало в ярких, талантливых красках рукою Мусоргского. Для поверхностного и рассеянного слушателя «Семинарист» Мусоргского — только предмет потехи, предмет веселого смеха. Но для кого искусство — важное создание жизни, тот с ужасом взглянет на то, что изображено в «смешном» романсе. Молодая жизнь, захваченная в железный нелепый ошейник и там бьющаяся с отчаянием — какая это мрачная трагедия! Юноша, осужденный на беличье колесо, которого ненужность он каждую секунду чувствует, но все-таки внутри его бегай, да еще живо поворачивайся — что может быть ужаснее? А тут побои по затылку кулаком самого «батюшки»-наставника, а тут его дочка Стёша, «щечки что твой маков цвет, глазки с поволокой», которая стоит перед глазами на левом клиросе во время молебна «преподобной и преславной Митродоре, пока он сам читал прокимен глас шестый» — вот долби тут как идиот: «panis, piscis, crinis, finis… et canalis, et canalisi» Как тут не одичать среди всего этого безумия? И тот, который в романсе Мусоргского — еще свежий, здоровый молодой парень, еще милый и интересный, юмористический и бодрый, скоро опустится и отупеет, жизненные краски поблекнут, и останется бездушная топорная кукла.
У Перова семинарист является два раза. В первый раз, в «Рыболовах», это еще живой, проворный мальчик, старательно приготавливающий на бережку ведра для рыбы, пока «батюшка» вместе с отцом-дьяконом тянет по речке сеть с рыбой. В другой раз превращение уже совершилось (картина: «Прием странника-семинариста»). Тот, кто был вначале живой, веселый мальчик, и кого потом так долго били, так систематически одурачивали, превратился уже в бурлацкую тупицу. Вот он сидит в избе, куда забрел по дороге. На его сапожищах — пуд грязи и пыли, платье на нем — дерюга; его приняли и приютили радушные бабы, старуха и молодая ее сноха; они поставили перед ним что у них было, и с удовольствием смотрят, как он, усталый и жестоко проголодавшийся, жадно хлебает похлебку из чашки. Картина эта, правда, не из лучших у Перова; она принадлежит 1874 году, т. е. времени поворота его назад, под-гору, и много в ней есть несовершенства, но все-таки тип главного актера удался чудесно. Из «семинариста» выработался теперь равнодушный, грубый, бесчувственный парень, уже от головы до ног проза самая беспробудная.
«Дьячок» у Мусоргского и «дьячок» у Перова — близкие портреты одного и того же лица, и только субъект у Перова постарше будет. У него (в картине «Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы») уже и жена-старуха есть, и сын взрослый, тот самый, что при первой примерке первого вицмундира показал на лице все дрянные качества, которыми будет потом блистать лет тридцать-сорок кряду, давя и выжимая все вокруг себя (помните «Колыбельную» Некрасова: «Будешь ты чиновник с виду, и подлец душой…»). Тут в картине дьячок уже стар и крив, он не выпускает даже и дома своих церковных ключей из рук, он целый день только и возится что со службами и со мздой, вот и теперь он лишь на секунду воротился домой полюбоваться на новоиспеченного чиновника. У Мусоргского дьячок (Афанасий Иванович в «Сорочинской ярмарке») пациент гораздо моложе, он еще через заборы лазит к пожилым своим зазнобушкам, он с ними еще неуклюже любезничает, но тяжелый церковно-славянский пошиб, хапужнический душок, раболепство и жадность на первом плане — все это точь-в-точь одинаково и у Перова, и у Мусоргского.