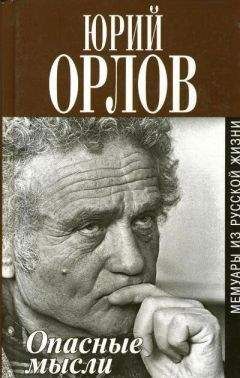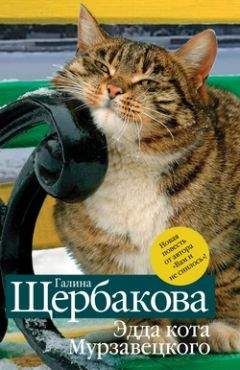Владимир Стасов - Перов и Мусоргский
Бабы Перова — сущий pendant к бабам Мусоргского, тем, что гуторят, шумят, болтают как чечетки, пересмеивают одна другую, в шутку перебраниваются с мужьями и дядьями или запанибрата кричат полицейскому: «Не серчай, Микитыч, не серчай, родимый!» Мужик в «Охотниках на привале», едко насмехающийся над разовравшимся барином — это словно бабы и мужики, насмехающиеся над Борисовым воеводой в Кромах (пятый акт «Бориса»). Один из товарищей Пугачева, сидящий около него на крыльце, уже с топором в руке, разгульный, злой и безжалостный (у Перова) — это точь-в-точь один из тех, что целой ватагой собираются творить расправу над Хрущевым и над иезуитом в последнем акте «Бориса Годунова» Мусоргского. И тут и там — люди, вышедшие однажды из терпения, одичавшие и свирепые.
Если бы понадобилась музыкальная иллюстрация для мужиков и баб Перова или живописная для мужиков и баб Мусоргского, я бы предложил их иллюстрировать одного другим. Фомки, Епифаны, Митюхи, Афимьи и множество других личностей в двух операх Мусоргского как две капли воды похожи характером, обликом, настроением, добром и злом своим на множество таких же Фомок, Епифанов, Митюх и Афимий Перова, которых мы только имен не знаем.
Но у Перова нет вот такого любопытного русского типа: это типа разбубенной, развеселой, разухабистой бабы, прошедшей сквозь огонь и воду; у Мусоргского он есть, в лице корчмарки в «Борисе», мурлыкающей песнь про «Селезня», и в лице бабы, поющей «Гопак». Обе личности — чудесно характерные.
Заключительная нота всех вообще этих жизней — одна и та же У обоих авторов: безотрадная смерть.
У Перова чудесны «Сельские проводы покойника», у Мусоргского ни на йоту не уступает им «Трепак». Трагичность, глубина чувства, Щемящая нота — одинаковы. У Перова жена с детьми везут на дровнях несчастный, досчатый, кое-как сколоченный гроб с бедным покойником; они все скомкались в одну группу, и живые и мертвый, им так тесно на дровнях, детки притиснуты в сторону гробом, вдова сидит на нижнем конце гроба, дети одни спят, другие собираются зареветь, мать, бедная, поникла головой и наклонилась к своей плохой кляче, везущей теперь, вместо сена или дров, вот какую процессию — и все это среди ледяного зимнего пейзажа, занесенных снегом полей, едва наезженной дороги. Холод, пустыри, засыпанная снегом глушь, забвение и навеки безвестность, словно которая-то из миллионов птичек замерзла на дороге, и никто о ней не знает и не будет никогда знать, никому ни жизнь, ни смерть ее не были интересны — вот содержание этой картины. «Возвращение крестьян с похорон» — продолжение этой сцены и настроения. Опять зима, опять снег, опять пустырь, опять глухие места, опять беспомощный, забытый люд, идущий в холодных зипунах и потертых тулупах по едва протоптанной дороге, мужчины с лопатами на плече, бабы с убитыми лицами. Но картина интересна уже только по сюжету и мысли. Исполнение ее совершенно эскизное, неудовлетворительное; ни одна фигура не срисована с натуры, выражения — придуманные и искусственные (она писана в последние месяцы жизни Перова). У Мусоргского повторяется та же страшная нота в его «Трепаке»: «Лес, да поляны, безлюдье кругом. Вьюга и плачет, и стонет; чуется будто во мраке ночном, злая, кого-то хоронит. Глядь, так и есть! В темноте мужика Смерть обнимает, ласкает; с пьяненьким пляшет вдвоем трепака: „Горем, тоской да нуждой томимый, ляг, прикорни, да усни, родимый! Я тебя, голубчик мой, снежком согрею…“ Долгие тяжкие годы томительной работы, холода и голода, мозолей на руках, несчастья в избе с семейством, и потом — бедное тело, спрятанное под грудами снега, среди вьюги и ветра, вот что одинакой кистью рисовали Перов и Мусоргский.
Но в картине Перова у нас перед глазами была одна из сцен начала жизни крестьянских детей. Несчастье, бедность, беспомощность, да еще все это в сто раз еще более выросшее после смерти того, кого они тут провезли в гробу. Пусть эти детки подрастут, какая тогда-то сделается у них жизнь? Это рисует нам в одной из своих картин Перов; но рядом с ним и Мусоргский, в двух из числа совершеннейших своих романсов. Кто у нас не знает „Тройку“ Перова, этих московских ребятишек, которых заставил хозяин таскать по гололедице, на салазках, громадный чан с водой. Все эти ребятишки — наверное деревенские родом и только пригнаны в Москву, на промысел. Но сколько они намучились на этом „промысле“! Выражение безысходных страданий, следы вечных побоев нарисовались на их усталых бледных личиках; целая жизнь рассказана в их лохмотьях, позах, в тяжком повороте их голов, в измученных глазах, в полурастворенных от натуги милых ротиках. У Мусоргского вы встречаете живой pendant ко всему этому. Его романсы „Сиротка“ (на собственные слова) и его „Спи, усни, крестьянский сын“ (на слова из „Воеводы“ Островского) столько же трагичны и столько же чудесны по красоте, как картина Перова. „Холодом-голодом греюсь, кормлюся я“, с щемящим выражением и прерывающимся голосом лепечет „Сиротка“… „Бранью-по-боями, страхом-угрозою добрые люди за стон голодный мой потчуют… Нет моей силушки…“ Та же доля и у „крестьянского сына“ А. Н. Островского, которого стихи передал Мусоргский с неподражаемым выражением тяжелого горя, чувства и музыкальной красоты: „Изживем мы беду за работушкой, за немилой, чужой, непокладною, вековечною, злою, страдного…“
Надо было слышать, как исполняли эти оба chefs d'oeuvr'a Мусоргского два великие русские артиста: песню смерти „Трепак“ — покойный Ос. Афан. Петров, а „Сиротку“ — его супруга, тоже бывшая знаменитая певица, Анна Яковл. Петрова. Надо было слышать обоих этих высоких художников, хотя оба они уже были в преклонных летах, чтобы оценить всю правду и глубину этих двух созданий Мусоргского.
Перову не случилось изобразить русских крестьянских детей тоже и в светлых красках. Мусоргскому — случилось. И с какой теплотой душевной и в каких чудесных линиях он нарисовал и эту сторону нашего детского мира! В последнем акте „Бориса“ есть у него сцена, взятая из драмы Пушкина, необыкновенно оригинальная и красивая. Это сцена с юродивым. Почти все тут по Пушкину, и только действие происходит не на московской площади перед соборами, а в лесу на юге России, близ города Кром, в минуту появления Самозванца с толпами его шаек. Входит на сцену юродивый, преследуемый целой оравой мальчиков, которые глумятся и хохочут над ним, и потом вытаскивают у него из рук его „копеечку“. „Железный колпак! железный колпак! Улю-лю-лю-лю!“ — кричат и жужжат они ему в уши, облепив его кругом, словно комары. У Мусоргского эта крошечная сценка полна такой резвости, такого светлого детского настроения, такой милой шаловливости и живости, которые действуют увлекательно (конечно, только не на тупых музыкальных консерваторов). Подстать этим крестьянским детям Мусоргского я знаю только одних крестьянских детей в нашей живописи: это детей в талантливом „Ночном“ Владимира Маковского.
„Озорник“ Мусоргского, это — еще фигура из одной породы с мальчишками из последнего акта в „Борисе“: те пристают к юродивому, насмехаются и трунят над ним, — точно так же в настоящем романсе шустрый, бойкий озорник-мальчуган пристает к старухе на улице: „Ох, бабушка, ох, родная, раскрасавушка — обернись! Востроносая, серебреная, пучеглазая, поцелуй! Стан ли твой дугой, подпертой клюкой, ножки-косточки, словно тросточки. — Ой, не бей, ой, не бей!“
Такие глубоко народные художники, как Перов и Мусоргский, не могли выпустить из своей галереи глубоко народного типа „юродивого“. Этот тип, которому суждено, быть может, скоро у нас выродиться, играл всегда слишком крупную роль в старой крепостной России, слишком был постоянно на виду и, значит, не мог не поражать глубоко и Перова, и Мусоргского. Оба они и изобразили его с удивительною рельефностью.
У Перова „Божий человек“ — это одна из капитальных его картин. В рубище, босоногий, всклокоченный, покрытый тяжелыми железными веригами, юродивый стоит, прислонившись задом к стене, в позе и с жестом полубезумного, и устремляет на вас свой помешанный сверкающий взор; его рот широко раскрыт, он улыбается, схватясь рукой за голову, и, кажется, запыхавшись от быстрого бега, произносит какие-то странные речи. Юродивый Мусоргского в „Борисе“ тоже вбегает, запыхавшись, на сцену, он жалок, он чуден; он тоже, как тот, произносит, с безумием в голосе, странные свои речи, он жалобно поет: „Месяц едет, котенок плачет, юродивый, вставай, богу помолися, Христу поклонися! Христос бог наш, будет вёдро, будет месяц…“ (слова по Пушкину). Но этот самый юродивый, несколько минут позже, обворованный со своей копеечкой деревенскими мальчишками, свидетель буйного въезда Самозванца с его ватагой, остается один на пустой сцене, и пока вдали начинает краснеть зарево пожара, зажженного вольницей Самозванца, сидит на камушке и жалобно причитает: „Лейтесь, лейтесь, слезы горькие; плачь, плачь, душа православная, скоро враг придет и настанет тьма темная, непроглядная. Горе, горе Руси. Плачь, плачь, русский люд, голодный люд!..“ Здесь опять та же фигура Перова налицо, только она уже тут возвысилась до трагизма, до истинной патетичности.