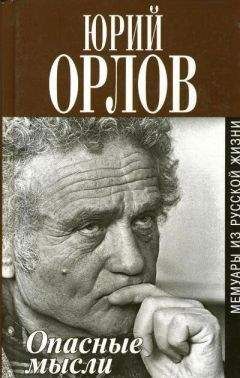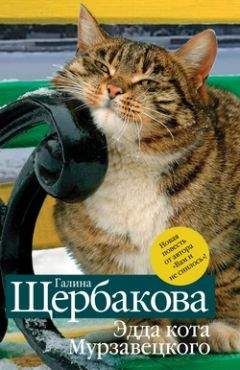Владимир Стасов - Перов и Мусоргский
«Дьячок» у Мусоргского и «дьячок» у Перова — близкие портреты одного и того же лица, и только субъект у Перова постарше будет. У него (в картине «Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы») уже и жена-старуха есть, и сын взрослый, тот самый, что при первой примерке первого вицмундира показал на лице все дрянные качества, которыми будет потом блистать лет тридцать-сорок кряду, давя и выжимая все вокруг себя (помните «Колыбельную» Некрасова: «Будешь ты чиновник с виду, и подлец душой…»). Тут в картине дьячок уже стар и крив, он не выпускает даже и дома своих церковных ключей из рук, он целый день только и возится что со службами и со мздой, вот и теперь он лишь на секунду воротился домой полюбоваться на новоиспеченного чиновника. У Мусоргского дьячок (Афанасий Иванович в «Сорочинской ярмарке») пациент гораздо моложе, он еще через заборы лазит к пожилым своим зазнобушкам, он с ними еще неуклюже любезничает, но тяжелый церковно-славянский пошиб, хапужнический душок, раболепство и жадность на первом плане — все это точь-в-точь одинаково и у Перова, и у Мусоргского.
Попов мы встречаем у Перова пять раз: в «Сельской проповеди», в «Сельском крестном ходе», в «Трапезе», в «Рыболовах» и в «Пугачевцах». В первой картине мы видим не совсем ту фигуру, какая была задумана автором: картина была написана в 1861 году, и, вследствие тогдашнего образа мыслей, Академия художеств, рассмотрев первоначальный эскиз, велела Перову не писать священника в ризе, а представить его в рясе [1]. Но в ризе или рясе, это крепкий, тихий и темный старичок, с убеждением проповедующий перед «господами» своего села на тему: «Несть бо власть аще не от бога» и поднимающий свой старый дрожащий перст к небу. В «Сельском крестном ходе» совсем о другом дело идет. Батюшка справлял пасху и не помнит уже, выходя из избы (где его усердно угощали), ни о «господах», ни о власти от бога. Вряд ли он помнит и самого себя, даром что в ризе, даром что перед ним несут крест и икону. Он опустил голову со спутавшимися волосами, он ищет себе, около крыльца избы, точки опоры… Дьячок его таков же. В «Трапезе» поп или дьякон — единственный представитель белого духовенства, вся картина состоит из монахов, потому я буду говорить о ней ниже. В «Рыболовах» батюшка и отец-дьякон вовсе не на службе и не при исполнении своих должностей. Они, жарким летним днем, заняты своим собственным любезным делом: они разделись, залезли по пояс в воду и тешатся рыболовством, волочат сеть в воде. Хотя эта картина не из лучших перовских, но в ней много хорошего, и фигуры двух главных действующих персон, с их головами наголо лысыми или повязанными платком, с их лицами, привыкшими к выражениям, вечно значительным и солидным, а теперь глубоко озабоченными лишь рыбой — комичны на манер Гоголя. Поп в «Пугачевцах» — одно из чудесных исключений этой мало удачной картины, и потому мы скажем о нем, говоря вообще об этой картине.
У Мусоргского попов нет в его созданиях, и только один раз поп изображен вскользь, мимоходом: это в «Семинаристе». По как ни вскользь, а он тут вышел необыкновенно рельефно. Это тяжелый батюшка старого покроя, с тяжелым кулаком, в свободное от службы время учащий в семинарии латыни и помечающий семинариста в «книжицу» за то, что тот на молебне много на левый клирос «все поглядывал, да подмаргивал», на красненькую дочку его Стешу. Хорошее, должно быть, у них там промежду себя ученье шло!
Монахов и у Перова, и у Мусоргского изображено очень много — целая галерея. Тут у обоих авторов разнообразие типов и характеров изумительное, а между тем они все явно принадлежат одному и тому же народу, одному и тому же национальному пошибу. В первый раз монахи явились у Перова в его «Чаепитии в Мытищах», под видом жирного красного здоровяка, отдыхающего в жару, на полдороге к Троицкому монастырю, под тенью деревьев, и отдувающегося за самоваром чайком. Молодая прислуга толкает прочь от чайного столика безногого отставного солдата, просящего милостыню. Все — тому, за то, что он век празден, ничего — этому, за то, что он век работал, как вол, и вот теперь в рубище и на деревяшке ходит. Положение явно то же, что в «Сельской проповеди», где помещик сладко спит, а мужиков лакей кулаками гонит прочь.
В «Трапезе» — продолжение того же мотива, только уже не на чистом воздухе, а в великолепной монастырской палате, просторной и богато украшенной, с расписными стенами, образами в золотые рамах, с большим распятием в глубине залы. Должно быть богатые поминки идут, и учтивый монах приглашает жестом толстую и огром* ную генеральшу (родом купчиху) тоже отведать. А столы накрыты во всю залу, и чинно сидит за ними вся братия, в живописных своих восточных костюмах, черных клобуках со спускающимся на спину покрывалом, и в черных же широких мантиях, падающих великолепными складками. Сколько разных натур, сколько несходных характеров! Одни добродушные, другие злые и ехидные, одни кроткие, другие желчные, одни совсем неотесанное мужичье, другие тяпнувшие книжной мудрости и способные хоть сейчас на прение в сорок часов сряду, кто высокомерный и повелительный, а кто и в землю униженно лбом стучащий, но все сошлись на одном: любят поесть и выпить, кому что на свой лад приятнее приходится. Но только им и невдомек, что тут на пороге их великолепной, широко раскрытой, трапезной палаты теснятся тоже и нищие, и одна из них, бедная женщина с ребенком, сидит босоногая на полу и протягивает издали руку. Точно для пояснения, в числе надписей по стенам, церковной кириллицей, стоит: «Лазаре, гряди вон». И все угощаются, все заботливо перемещают со стола в желудок что получше. Кто, молодецки запрокинув голову назад, выливает себе залпом внутрь большую порцию веселого зелья; кто желчно выговаривает поседелому лакею, что он так долго мямлит, вытягивая пробку из горлышка бутылки; кто, захватив кончик платка зубами, ссыпает туда внутрь с тарелки всякую лакомую штуку; кто уже довольно пил и, прищуривая немного глаза, ведет премудрую беседу, доказывая убедительно пальцем; кто уже и совсем благополучен, и, скрестив руки на брюшке, воздевает горе свое лицо с порозовевшими щеками, ни о чем более не думает, более ничего не хочет, мирно блаженствует, даром что какой-то гость, светский духовный, кажется дьякон, в яркой шелковой рясе, что-то ему наговаривает под сурдинкой, фискалит или рассказывает, а сам, уже весь бледный и искаженный от вина, безобразно хихикает, пригнувшись до самого стола. Но над всем этим расстилаются надписи по стенам «Не судите да не судимы будете», «Да не смущается сердце мое», — и все довольны, все счастливы, богатая трапеза совершается по чину, солнечный луч косым золотым столбом входит через окно, и в воздухе мечется во все крылья белый голубок, нечаянно попавший туда сквозь растворенную какую-нибудь форточку.
Совсем другая история совершается на маленьком, но сильно оригинальном рисунке Перова: «Дележ наследства в монастыре». Дело происходит ночью. Умер один из братии. Дьери кельи крепко приперты. Покойный лежит на полу, с раскрытыми глазами. С него грубой и безжалостной рукой стаскивают одежды; другие наскоро отхлестывают из оставшихся бутылок; еще другие жадно шарят по ящикам; наконец, еще один из братии громадным ломом взламывает крышку сундука. Повсюду беспорядок, сумятица, словно нашествие неприятельское. Какая разница с завтрашним днем, когда этот самый мертвый будет чинно лежать- на катафалке, и кругом него будут раздаваться стройные, строгие похоронные лики.
Как заключение этого отдела созданий Перова, я укажу на маленькую картинку, не только не конченную, но даже существующую лишь в виде эскизного наброска. Картинка называется: «Беседа двух студентов с монахом, у часовни». Начата она была в 1871 году, потом в течение целых десяти лет заброшена, почему — не знаю; но уже наверное не потому, чтоб сюжет перестал интересовать Перова. Нет, напротив. В 1880 году мы находим у него ту же сцену (в виде рисунка каранданшом), но только несколько измененною: дело происходит уже не на чистом воздухе, а в вагоне железной дороги, присутствующих более, но главные действующие лица и их позы остались прежние. Дело все состоит в том, что молодые люди, студенты, затеяли спор с монахом, и так его доехали, что он просто своих не найдет, присел плотно на скамейке, прижался руками к доске и только поднятыми вверх глазами точно говорит: «Господи! что эти люди говорят!», а сам, видимо, не знает, что им и отвечать. Я эту недоконченную маленькую картинку считаю одним из важнейших созданий Перова: тема одна из самых современных, какие он только брал на своем веку — столкновение нового поколения со старым, и это без всяких насмешек, без глумления, без дурацкого ничтожного приставанья. Нет — серьезно, важно, с полным достоинством. Особливо хорош и правдив юноша налево, в очках, сидящий, схватив коленку руками и весь устремленный в мысль, которую доказывает. Такие сцены, и не с одними монахами, поминутно происходят у нового поколения, только раньше Перова никто не вздумал их занести в картину, да еще с таким талантом, простотой и верностью. Может быть, немного есть сцен из новой жизни, столько важных для искусства, столько зовущих его живое воплощение, как эта: «Новое», наступающее на «Старое», неотвязно, горячо требующее с него отчета и ответа. Глубокий ум Перова, наблюдательный, симпатичный и пытливый, является тут во всем блеске. По-моему, эта маленькая картинка — одно из лучших прав Перова на русскую славу.