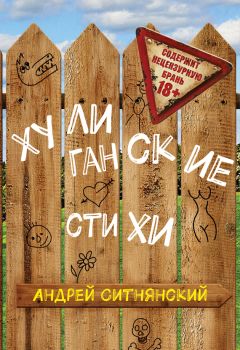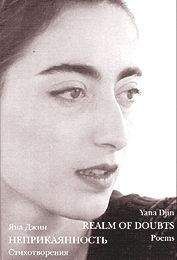Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей
Это не совсем дневник. Собственно дневниковые записи, фиксирующие самые незначительные события, скрупулезно – и немного болезненно – внимательные к мелочам, чередуются с воспоминаниями и фрагментарными описаниями, составляющими подобие личной энциклопедии: «Весна», «Дом», «Город», «Одичание», «Общественность»…Оказавшийся после революции в общественной изоляции и вынужденном (в том числе и по состоянию здоровья) затворничестве, Кузмин переписывает действительность, заново выстраивая ряды понятий и «чувственных вещей». Это форма противостояния хаосу, форма сопротивления. Вот как заканчивается, например, запись «Радио и патефон»: «Оба одинаково чудесны, но мне милее – радио». Кузмин, всегда поражавший современников безмятежной ясностью сознания, верен себе в любых обстоятельствах. Жалоб на нищету почти нет, а степень ее ощутима только в случайных проговорках: «Завтра собираемся в Павловск, только бы хватило денег». Сетования есть, но больше не на конкретные обстоятельства, а на ослабление воли или общее оскудение, выветривание слаженности и жизненной гармонии. И через все записи идет одна совершенно неповторимая интонация человека, смотрящего на уходящую и часто враждебную жизнь как на причуды не слишком воспитанных детей: без злобы и грусти, но с легким усмешливым неодобрением. «Круг знакомых, из которых меня потихоньку выперли. Я все-таки этим не очень доволен». Многие эпизоды дневника непритязательно комичны, и здесь один из секретов его обаяния: никакой заданности, установки на смешное (или трагичное), если что и получилось, то – само. Человек умный, наблюдательный и лукавый, Кузмин тем не менее довел изложение до замечательно бесхитростного тона. Даже о вере, даже о смерти – нейтрально, почти обыденно. И с той же спокойной обстоятельностью Кузмин фиксирует учащающиеся припадки сердечной астмы, обмороки, агонию. Жалеет друга, которому пришлось бегать за кислородной подушкой: «стал прыскать на меня кислородом, как персидским порошком на клопа, потом я задышал».
Легкость, как известно, тяжелая работа, чувствуется, что автор где-то жертвует сложностью оттенков ради ясности и «осенней» четкости изложения. (Тонкая ткань ощущений отчасти восстанавливается при неожиданных сближениях: «Но было как-то рождественски и по-немецки. Фольга какая-то».) Это особенно заметно в воспоминаниях, периодически всплывающих среди дневниковых записей. Основных линий две: саратовское детство и «Башня» Вячеслава Иванова. Воспоминания детальные и трезвые, лишенные всех психофизических последствий похмелья. (Похоже, Кузмин никогда особенно не опьянялся.) Очень внятный урок «человечной» демифологизации, необходимый именно нашему времени, – по-детски обидчивому и склонному, чуть что не так, просто смахивать фигуры, как шахматы в незадавшейся игре.
И здесь мы чуть коснулись того, что делает «Дневник» до странности актуальным чтением. Это очень честная и «прямая» речь очень взрослого человека. Человека своего возраста. (Что, как выясняется, не исключает и какого-то простодушия.) Который даже умереть мог «легко, изящно, весело, почти празднично». Конечно, Кузмин – человек очень «стильный», стиль заложен в основе его существа, а любое действие выразительно, почти сценично. «Дневник», кроме прочего, фиксирует и последний этап «художественного проекта» Кузмина: превращения собственной плоти в подобие эоловой арфы, а своей жизни – в увлекательно зашифрованную притчу. Спокойствие автора можно объяснить уверенностью в том, что сюжетная линия продолжается даже на последних, потаенных страницах и мало зависит от чьего-либо внимания.
Труднее понять другое: как существуют люди, которых изо дня в день буквально выталкивают из жизни как человеческий тип. Чтобы просто не было больше в мире таких людей. Постаравшись, можно прочитать в «Дневнике» кое-что и об этом: о победительной нежности и бесстрашии; о хрупкой сложности «художественных натур», оказывающейся иногда сильнее всех обстоятельств.
В заключение необходимо сказать, что собственно дневник Кузмина – лишь часть этой замечательной книги. Больше половины ее составляют разного рода комментарии, не только проясняющие обстоятельства времени и места, но и дающие дополнительные измерения основному тексту. Это воспоминания О. Н. Гильдебрандт, почти ежедневно общавшейся с Кузминым последние полтора десятилетия его жизни; редкие фотографии и рисунки; вступительная статья Г. Морева, подготовившего книгу к печати, и его же комментарии. По большей части в них даны сведения о людях, упомянутых в «Дневнике». Года рождения разные, года смерти – почти совпадающие, часто сопровождающиеся припиской «в заключении». Двухсотстраничный мартиролог общественного слоя, насильно прекратившего свое существование. Большинство этих людей не оставило о себе даже личных свидетельств, письменной памяти. Редкое исключение из правила – «Дневник 1934 года» Михаила Кузмина.
В конце прямой
Новая книга «Иосиф Бродский: труды и дни» (М.: Издательство «Независимая газета», 1998), по счастью, не напоминает наскоро сколоченный памятник. Некоторые рассказы очевидцев слишком откровенны для такого намерения, кроме того, Бродский не только герой, но и один из авторов этой книги. В нее вошли три его текста и одно интервью, а неумышленное соавторство распространяется и на остальные материалы, – настолько они заполнены репликами, словечками Бродского, цитатами из его вещей.
Бóльшая часть этих материалов уже публиковалась (в журнале «Знамя»), но даже знакомые тексты в книге выглядят несколько иначе. Они структурированы, распределены по разделам, некоторые из которых снабжены предисловиями и тематическими статьями составителей книги – Л. Лосева и П. Вайля. Разделов всего пять: «О Пушкине и его эпохе», «Поэт на кафедре», «В Англии», «Мемуары и заметки» и «Нобелевский круг». Основной состав книги – воспоминания друзей, коллег, учеников Бродского и интервью, полученные у знаменитых литераторов и славистов. Соотношение между иноземцами и бывшими соотечественниками не в пользу последних, что отражает реальность двух (с лишним) эмигрантских десятилетий в жизни поэта.
Похоже, что книга и замысливалась как множественный рассказ об этом периоде, наименее известном русскому читателю. Она проясняет положения, о которых мы не знали или только догадывались: далекие и малопредставимые интеллектуальные широты. Это прежде всего общественная и преподавательская деятельность Бродского, его абсолютная внедренность в англоязычные литературы, невероятная культурная активность. Действительно – «труды и дни». Трудовая дисциплина Бродского и ответственность в добровольных обязательствах как будто не имеют аналога среди известных нам поэтов-современников, а объясняются скорее всего особым темпераментом, при котором любое рабочее предложение понимается как вызов обстоятельств. Как Бродский принимал такой вызов, мы знаем.
«Он был выдающимся профессионалом», – отмечает Джон Ле Карре. Эта констатация имеет заметный британский акцент. Вообще, свидетельства англичан иногда довольно неожиданны, как взгляд со стороны. Доступны пониманию и их претензии: к языку и стилю английских стихов Бродского, к самому автору, как носителю образа «поэта, обладавшего высоким предназначением» (Д. Смит). Даже превосходные степени оценок здесь лишены специфической трепетности, а общая сдержанность тона кажется уместной в разговоре о поэте, относившемся и к себе, и к человеку вообще без особого пафоса.
Бродский культивировал трезвый взгляд на вещи и пытался привить его русскому литературному сознанию. Но трезвость, заявляющая свои права сразу после смерти близкого друга и/или литературного кумира, не оскорбит только черствую душу. Вот и составители книги стараются сохранять деловую интонацию, а голос не слушается; слова ходят по краю, словно очерчивая провалы изменившегося мира.
«В восприятии друзей он был не столько личностью, сколько неким принципом неразрушимости…» Эта фраза Шеймуса Хини частично объясняет нам причины и последствия катастрофы. Для многих смерть Бродского – это еще и смерть принципа. Смерть одного из представлений о реальности; травматическое нарушение, помрачение самой жизни. Твердость – именно то качество (или уже состояние) Бродского, которое сильнее всего заворожило современников. Казалось, вероятно, что человека, стоящего так твердо, невозможно ни сдвинуть, ни сломать.
У стихов Бродского есть многочисленные поклонники, есть и немногочисленные осторожные критики, но, наверное, никто еще всерьез не оспаривал незаурядность и человеческий масштаб их автора. Большинство представленных в книге свидетельств говорят о чуде обретения биографии. О человеке, прочертившем свою жизнь как прямой эпический сюжет (и в полном соответствии с законами классической композиции). Вот фраза с оборота суперобложки – возможный ключ к разгадке тайны: «Правда заключается в том, что я никогда не чувствовал себя несвободным».