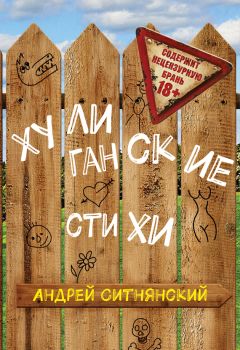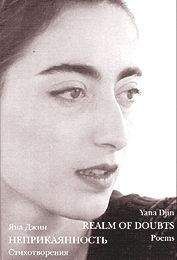Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей
Повествование не захватывает те области, где жизнь Мандельштама становится его стихами, и нам негде соединить их в один текст. Правда и реальность, не сойдясь в самых важных пунктах, начинают опровергать друг друга.
Это как бы сырая правда. Точечная, эпизодическая. Память не панорамирует, поздние свидетельства Э. Г. пытаются воссоздать зрение без дальней перспективы: взгляд очевидца событий. Но такой взгляд должен фиксировать текучее, переменчивое состояние жизни, и сам должен быть переменчивым и совершенно непредвзятым.
В этом опасность мемуаров: они фальсифицируют наблюдателя. Мемуарному наблюдателю подвластно только спрессованное и выбранное (выборочное) время, его глаз не фотовспышка, нельзя сфотографировать воспоминание.
Нет правды вне правды жанра, и мемуарный герой должен иметь ту же природу, что и мемуарное время – слитную и выборочную. Такой слитный образ дала в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна. Может быть, не образ Мандельштама, но образ своей жизни с О. М. Воспоминания разных людей о Мандельштаме в массе не очень выразительны. Заметен осудительный уклон: не отдавал долги, вспыльчив, запальчив, часто несправедлив. До смешного похож на Парнока, то есть на автошарж. Кажется, что никто из современников так и не увидел Мандельштама в полный рост. Только Ахматова и Надежда Яковлевна. Они и пишут о нем, как никто. «Когда, уничтожив набросок, / Ты держишь прилежно в уме / Период без тягостных сносок, / Единый во внутренней тьме…» Все пишут о набросках судьбы и отброшенных вариантах, а они – об окончательной редакции.
Но даже для поздних стихов Мандельштама окончательные редакции достаточно проблематичны. Когда Э. Г. Герштейн открыто обвиняет вдову поэта и Анну Ахматову в умышленном лжесвидетельстве, то здесь возможно только одно возражение: эта редакция не убедительна текстологически. Она подобна тем исследованиям, которые возвращают шедевр к исходному замыслу и свидетельствуют о том, чем не стало великое стихотворение, многократно переписавшее себя по ходу дела, – по воле языка и собственной нарождающейся формы.
Говорить об этом тяжело, больно и очень опасно. Ни на секунду нельзя забывать, кто говорит – и о ком. Воспоминания современников, друзей, хранителей архива – и мнения о них случайного человека из послевоенного советского поколения. Кому они интересны? Но и почтительное недоуменное молчание едва ли лучше, какой автор пожелает, чтобы именно так был встречен его труд.
Уместнее все же сопоставлять свидетельство и свидетельство. Мне кажется, что лучшим комментарием к мемуарам Герштейн были бы письма С. Б. Рудакова, тоже сравнительно недавно опубликованные в значительном объеме.[17] Это действительно «документ». Рассказывая жене о своем гениальном наставнике и подопечном, Рудаков попутно сводит с ним кое-какие счеты. В основном творческие (тот не ценил его стихов), но переведенные в однообразные сетования на дурной характер, на припадочную вспыльчивость и «суетливые» попытки не пропасть сразу и окончательно. Разочарованно отмечает полное отсутствие величавости в этом истерзанном и почти умирающем человеке («Побледнел: „Сергей Борисович, а я, часом, не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает…“»[18] Какая жизнь, сердце разрывается. Цеплялся за любую работу, оттачивал рецензию на сборник метростроевцев. Песье одиночество…) Но когда Мандельштам начинает перекипать стихами, наблюдатель отводит взгляд от бокового зеркальца, приходит в себя и видит наконец своего собеседника. Происходит какое-то чудо: мгновенное возмужание, даже стиль меняется, исчезают жеманные инверсии, рассказ идет легко и бегло. «Боже, как дивно Мандельштам говорит».[19] В записях Рудакова действительно появляются клочки записанных по свежим следам подлинных мандельштамовских слов. По большей части они звучат как зажеванная магнитная запись, но прорывается и живой голос: «Отобраны, заложены жизнь и смерть – выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее все спрятано – концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь – это же движение, действие, событие – его нельзя описать».[20]
«Он признавал только настоящее», – пишет и Эмма Герштейн, но почти не комментирует свое наблюдение.[21] Допустимо, я думаю, пояснить его ну хотя бы ссылкой на Лотмана: «Настоящее – это вспышка еще не развернувшегося смыслового пространства».[22] Именно: еще не развернувшегося, но и не способного развернуться без усилий особого рода. «Мы живем, под собою не чуя страны», – вот подлинное обвинение, потому что то, что мешает поэту понимать время и заражать этим пониманием окружающих, мешает и самому времени стать настоящим (в обоих смыслах) временем. Мандельштам чувствовал это как никто другой – до умоисступления. Все его биографические странности могут найти объяснение, если рассматривать их как отчаянное сопротивление выталкиванию из своего времени. И все настоящее, вырванное им из временного потока, не подвержено ревизии или почетному забвению. Настоящее всегда здесь и теперь, нужно только прочесть.
Мандельштам считал, что мыслит «опущенными звеньями». Можно считать эту статью попыткой восстановить одно из таких звеньев. (Возможно, неудачной.) Тогда посмотрим, чем завершается отрывок, начинавшийся фразой, что приведена в начале статьи: «Но мыслящая саламандра – человек – угадывает погоду завтрашнего дня, – лишь бы самому определить свою расцветку».
«Пора вам знать, я тоже современник…»
Вышел в свет последний, четвертый том «Собрания сочинений» Осипа Мандельштама. От более ранних подобных изданий его отличает доступная полнота, скрупулезность составления и своеобразное построение: материалы подобраны по хронологическому принципу, а жанровое деление присутствует внутри каждого тома. Вероятно, по академическим меркам такое построение спорно, но спорить почему-то не хочется. Творчество Мандельштама действительно не поддается принятым расстановкам, и хронология для него, пожалуй, самая естественная канва.
Впрочем, четвертый том представляет собой некоторое исключение из заявленного правила: он дополняет и завершает собрание. К двум составителям первых трех томов (П. Нерлер, А. Никитаев) здесь прибавились еще два: Ю. Фрейдин и С. Василенко. При их участии подготовлен основной раздел тома «Письма». Так озаглавлен и весь том, что справедливо, хотя собственно письма составляют ровно треть его объема, а дальше – переводы, комментарии, именные и прочие указатели.
«Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.
Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя…»
Таким письмом кончается раздел «Письма», и тут нет режиссерских ухищрений составителей, это действительно последние слова Мандельштама, дошедшие до нас.
Режиссура была уже в руках других инстанций. Как, похоже, и все в жизни этого автора. Самое страшное письмо – последнее, самые дивные стихи – поздние. Судьба Мандельштама сложена как боготворимый им готический собор, только нервюры его еще шевелятся, наподобие живого стебля. Остов не каменеет.
Облик Мандельштама представим, изменчив и совершенно естествен. Легче легкого представить его хохочущим, испуганным, обманутым. И в любом состоянии он безупречен – в прямом значении слова: его невозможно упрекнуть, вернее, невозможно понять, кто бы решился это сделать.
Но вспомним, как легко и охотно решались на это современники Мандельштама. Время не узнает своего героя и выбирает в герои того, кто особенно отважно следует лучшим образцам пройденного. Современники – не хочется их называть очевидцами – ждали наглядно последовательной биографии, а Мандельштам писал: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз…» Общий ход личной правоты и художественной интуиции в его судьбе казался опрометчивым, казался делом случая…
У Арсения Тарковского, лично знавшего Мандельштама, есть посвященное ему стихотворение «Поэт». Четвертая его строка – про старого клоуна в котелке – звучит немного странно, как будто уничижительно. Можно бы и обидеться за любимого поэта. Но обиды почему-то не чувствуешь. Этот экранный клоун похож на состарившегося Чарли Чаплина. Но ведь Чаплин появляется и в стихах самого Мандельштама, причем дважды, оба раза в 1937 году. Впервые мелькает в стихотворении «Я молю, как жалости и милости»: «В океанском котелке с растерянною точностью / На шарнирах он куражится с цветочницей». Котелок здесь оказывается океанским, а у растерянности есть оборотная сторона – точность. Через два месяца появляется стихотворение, так и названное «Чарли Чаплин»: