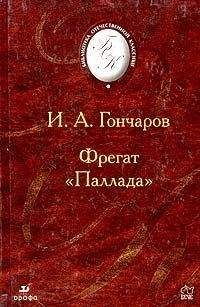Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
Один пример. Писатель мечтает написать повесть из жизни вагонных уборщиц. Этот прихотливый замысел – пастернаковского происхождения. Бредящая героиня Пастернака возникает из везуевого пепла, засыпавшего древний город. Она – Золушка, Попелюшка, Сандрильона, бедная уборщица всех зол, везеньем, случаем и волнительным пустяком производимая в принцессы. Набоков просто-напросто переводит этот излюбленный пастернаковский образ на язык железнодорожной прозы и загадочного замысла своего героя. Пастернак же, превращая зло в золу, а Анну Каренину – в Сандрильону, спасает ее от погибели[55]. Золушка нарождается, как бабочка, из железнодорожного вокзала: «И в пепле, как mortuumcaput, / Ширяет крылами вокзал» (I, 433). «Mortuumcaput» – бабочка «мертвая голова», но это и кардинальное понятие алхимии – пепел, остающийся в тигле продукт химических реакций, в переносном смысле – нечто, лишенное живого содержания. Но у Пастернака – возвращаемое к жизни вновь (он, как Амфион, получивший от Аполлона волшебную лиру, под звуки которой сами собой воздвигаются разрушенные стены Фив). Экспресс – поезд идущий с повышенной скоростью, происходит от латинского слова expressus (exprimere), обозначающего «выжимать». Экспресс – и образ, и принцип организации прозаического материала: «Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости» (2, 481). Слово, как нога на педали, и здесь один императив: «Жми!». Определяя метафору как скоропись духа, Пастернак говорил именно об этом уплотнении и прессе образов поэтического бытия, их курьерской аббревиатуре, когда в стиле важен, по словам Пруста, «прежде всего какой-то драгоценный и истинный элемент, скрытый в сердце каждой вещи и извлеченный (экстрактом добытый, выжатый. – Г.А., В.М.) оттуда гением великого писателя» [avant tout quelque élément précieux et vrai, caché au coeur de chaque chose, puis extrait d'elle par ce grand écrivain grâce à son génie][56]. Мандельштам развернул эту идею в «Разговоре о Данте»: «У Данта не одна форма, но множество форм. Они выжимаются одна из другой и только условно могут быть вписаны одна в другую.
Он сам говорит:
Io premerei di mio concetto il suco – (Inf., XXXII, 4)
“Я выжал бы сок из моего представления, из моей концепции”, – то есть форма ему представляется выжимкой, а не оболочкой.
Таким образом, как это ни странно, форма выжимается из содержания-концепции, которое ее как бы облекает. Такова четкая дантовская мысль.
Но выжать что бы то ни было можно только из влажной губки или тряпки. Как бы мы жгутом ни закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма. Другими словами, всякое формообразование в поэзии предполагает ряды, периоды или циклы формозвучаний совершенно так же, как и отдельно произносимая смысловая единица» (III, 227)[57].
Экспресс – экстазирующее и формообразующее начало. Это возможность соединить разделенные точки, ужать расстояния, создавая тесноту синтагматического ряда, но одновременно – и жатва, собирание разбегающихся и разделенных пространств в цельные фигуры и снопы метафор[58], чтобы, по словам Некрасова, – словам было тесно, а мыслям – просторно. Но экспресс – это и пресс, печать, запечатанность, запечатленность[59]. Предельное сжатие ждет и само слово. Слово – и речь в целом, речение, и отдельная единица этого целого. Оно – запекшийся смысл, сгусток энергии, существенный настой и жизненный отвар.
Отдавая сжатость, казалось бы, всецело на откуп пошловатому писателю, Набоков на деле не расстается с ней: «Однажды, когда трезвомыслящий, но несколько поверхностный французский философ попросил глубокомысленного, но темного немецкого философа Гегеля изложить свою мысль сжато, Гегель отрезал: “Такие предметы нельзя изложить ни сжато, ни по-французски”»[60]. Мысль, как зверь, покойно укладывается в родную берлогу языка, она сама держит пропорции языкового универсума. Это вынуждало Толстого к известному отказу от пересказа «Анны Карениной». Дело не в том, говорит Набоков, что надо литературу удлинять или жизнь укорачивать, речь сама полагает внутреннюю меру своего развития. Метафора не может быть короче или длиннее, она – то, что нужно. А ее, так сказать, пизанский наклон в языковой плоскости сравнения, эпитетного положения, развернутого описания и так далее – по закону развертывания речи, а не сторонней авторской прихоти. Или апухтинским словом:
Твои за жизнь напрасны страхи;
Пускайся крепче и бодрей,
То развернись, как амфибрахий,
То вдруг сожмися, как хорей
[61].
Мы не доискиваемся, спорит или соглашается в 1927 году Набоков с Пастернаком. Тем более что его персонаж – лицо самостоятельное. К тому же, отстаивая примат жизни перед литературой (опять же – как эстетического принципа), писатель соглашается с противоположным мнением критика: «Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычное делать случайным». Всю жизнь Набоков будет использовать, всячески преобразуя пастернаковские «обороты, эпитеты, дикцию, стереоскопичность» (2, 760), проявляя свойственную им обоим словесную находчивость. «Окрыленный клоун, или ангел, притворившийся турманом», – сказано о Себастьяне Найте набоковскими словами о самом себе. Ангел здесь – не религиозное существо, а литературная тварь. Серная спичка в рюмке – знак застольного разговора, а вытащена она из того же спичечного коробка – «коробки с красным померанцем», – каморки, где ютится поэзия.
Набоковский рассказ любопытен тем, что в нем ничего не происходит. В самом деле, ведь не считать же событиями – залез в поезд, вылез из поезда и т. д. И то, что в тексте не происходит, если перефразировать Аристотеля, – может не случиться с каждым (и я могу, прорыдав на верхней полке, не убить свою жену, и ты можешь, и он). Мы уже сказали, что «Пассажир» – о том, как и благодаря чему вообще может строиться повествование. Такой тип прозы обладает метаязыковой оборачиваемостью и свертываемостью своего языка. Язык же каким-то естественным, но невероятным образом способен не только говорить о чем-то, но и о том, как он это говорит и на чем основывает. И эти метаязыковые представления – не понятия, а, так сказать, нутряные органические образования самого языка повествования. Это не знание о языке, а условия работы самого языка и реализация каких-то внутренних возможностей самого языкового существования. Иными словами: язык действует, если в нем самом есть нечто о языке (и это нечто – одновременно и элемент функционирования языка).
И здесь крайне важно – кто что знает. Главная забота писателя (а вместе с ним и Набокова) – сюжет. Но знание того, что есть настоящий, подлинный сюжет, нарождается внутри самого сюжета как его отрицание. События происходят в промежутке между объективной и субъективной точками зрения, которые сливаются в конце концов в единое знание. Сюжет работает как целое только благодаря связующей функции ведения (и неведения), выступающего как событие, связующее все факты и ситуации сюжета в единый ансамбль.
Разгадывая своего попутчика, писатель предлагает субъективную версию, которая в конечном счете не согласуется с фактами, и он восторженно берет сторону объективности. Но если писатель переходит от субъективного знания к объективному, то пассажир никуда не приходит. Во-первых, он не знает, что становится героем детективного сюжета, блистательно придуманного специально для него. Во-вторых, пассажир не знает, что с момента идентификации его полицейскими, он перестает быть героем этого сюжета со смертоубийством неверной жены и последующим раскаянием. Но в этих двух случаях он не знает совершенно различным образом. В первом случае он превращается в действующее лицо писательского замысла и всецело подчинен телеологии сюжета. Во втором – он не персонаж, и уж тем более не автор той жизненно правдивой истории, где он не убивает жену и любовника, а плачет в ночи бог знает от чего. Пассажир здесь – скорее персонификация самой невозможности той или иной жесткой телеологии и конечного определения жизненного акта. Он – выражение свободы существования. И если писатель пытается за него придумать ему роль, то непрерывно обновляющаяся и равная себе жизнь с помощью своего героя отвергает любую роль, снабжая нас «неожиданной, но все разрешающей развязкой» (2, 481). Гений жизни и на этот раз утер нам нос, и потом утрет, будем уверены. «Жизнь всегда перехитрит Творца» (Марина Цветаева)[62]. Как говорил один герой Салтыкова-Щедрина: «Вся наша жизнь есть наука, сударь, с тою лишь разницей, что обыкновенные, настоящие науки проникать учат, а жизнь, напротив того, устраняться от проникновения внушает» (XV(I), 101-102). Здесь тоже внушение от проникновения. Жизнь может существовать лишь творя живое и вездесущно превосходя самое себя. По Пастернаку: «На свете былей непочатый край…» (I, 339). И герой Набокова – не вполне человек, скорее – початок этого края (мы не знаем, не только как его зовут, но и как он выглядит; он – не человек, а какой-то странный выгляд и чадо бог знает какого начала). Но одно дело – непочатый край былей, а другое – сама быль как непочатый край и предел классической досягаемости. Быль как небывалое и неуловимое. Реальная история не хранится где-то, готовая к употреблению. Чтобы почать, надо выдумать. Быль надо заново создать. По завету жизни писатель должен воображать то, что есть, а не то, чего нет.