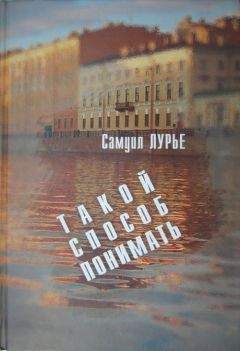Самуил Лурье - Успехи ясновидения
Еще бы! Какая удивительная семья!
"С этой минуты Александр Иванович стал у нас своим человеком. Отец захотел, чтобы я срисовала портрет с его любимца..."
Развитие лирической темы легко вообразить. Незабываемое случилось, по словам героини, лунной ночью в лодке посредине реки Москвы:
"...На глубоком месте я увидала прелестную белую кувшинку и вскрикнула от восторга. Полежаев перегнулся через весь борт, лодка сильно покачнулась в его сторону. У меня замерло сердце. Но..." И так далее.
Поэт обессмертил, что называется, другую сцену - тоже ночную, тоже на реке: дева купалась, а он, естественно, подглядывал, как она
...стыдливо обнажала
И грудь, и стан, и ветром развевало
И флер ее, и черные власы...
и смертельный яд любви неотразимой его терзал и медленно губил, и прочее.
Днем тоже кое-что происходило. Иван Петрович попросил Полежаева незамедлительно создать что-нибудь серьезное - что-нибудь такое, чтобы уже ни у кого ни наималейших сомнений не осталось насчет образа мыслей автора. Иван Петрович, как выяснилось, был несколько знаком с графом Бенкендорфом и теперь намеревался воспользоваться этим знакомством для спасения нового друга. Полежаев написал большое стихотворение - высокопарное и заунывное, ничего лучше и пожелать было нельзя (почти только такие теперь и получались), но, по мнению Бибикова, стоило бы подсластить: бездну отчаяния очень украсила бы искра надежды. Полежаев заупрямился - и пришлось Ивану Петровичу самому присочинить три строфы: он был отчасти тоже поэт, напечатал однажды послание к другу, а как-то раз в Английском клубе высказал Пушкину свое суждение о "Графе Нулине".
Коллективный шедевр, благоговейно перебеленный Екатериной Ивановной, отправился куда следует вместе с письмом, над которым добрейший Иван Петрович корпел три дня.
"Я припадаю к ногам Вашего Сиятельства, и как христианин, и как отец семейства, и, наконец, как литератор, заклинаю Вас принять на себя посредничество и добиться, чтобы он был произведен в офицеры. Спасите несчастного, пока горе не угасило еще священного пламени, его одушевляющего..." И все такое.
Идиллия в Ильинском продолжалась две недели. Остались от нее два стихотворения (Белинский, кстати припомним, их похвалил: дескать, всегда бы так чувствовал Полежаев - цены бы ему не было) - и засушенный лист кувшинки в одной заветной тетради - ну и письмо Бибикова в архиве, приоткрытом лет через сто новой властью.
Начало письма оказалось такое:
"Многоуважаемый Граф!
В 1826 году я первый обратил Ваше внимание на воспитанника Московского университета Полежаева. Разрешите мне также и в его пользу говорить Вам одним из первых..."
Этот Бибиков был в свое время полицеймейстером в Москве, потом вышел в отставку, а как прослышал, что Бенкендорф затевает Третье отделение, попросился в сотрудники раньше всех - и, доказав свои способности разоблачением Полежаева, был зачислен. (Однако других крупных успехов не добился - и опять вышел в отставку, и тем же чином, бедолага.)
Если он был автором первого, рокового доноса, то, вероятно, и второй, не сработавший, - дело его же рук. Там похожий слог и точно такой же ход мысли: Московский университет раздувает искры либерализма, гнездящиеся в юных сердцах, - как доказательство предъявляю стихи Полежаева - правда, уже наказанного, - но не слишком ли балуют его в полку... (На первой странице доноса - чья-то карандашная помета: От Шервуда, - но стиль предателя декабристов несравненно ярче, и университеты были не по его части, а литературой он вообще не занимался, и с осени 1828 года находился в войсках, осаждавших Варну, - слишком далеко от Москвы, - а зато с Бибиковым до недавнего времени был неразлучен...)
Вообще-то наплевать, сколько было негодяев и как их звали. Но политические выпады, инкриминированные Полежаеву при жизни - погубившие его - а после Великой Октябрьской признанные важнейшей заслугой, - эти несколько строк добыты советской наукой из упомянутых доносов и в канонический текст внедрены посмертно.
А надобно заметить, что строчки эти, все как одна, выглядят удивительно неуместными. Когда философское, высокого слога, стихотворение "Рок" оканчивается бессмысленными словами:
И Русь как кур передушил
Ефрейтор-император,
оно сбивается на пародию.
И когда жалобная-прежалобная мелодия "Цепей": "Я увял, и увял / Навсегда, навсегда, / И блаженства не знал / Никогда, никогда" - внезапно прерывается барабанным боем в единственной строфе других, грубых очертаний:
Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана,
это странно.
По правде говоря, и в поэме "Сашка" презренные палачи появляются не особенно кстати...
Так вот - не Бибикова, не Ивана ли Петровича это творчество? Мы ведь видели в Ильинском, что зуд подлога у старого шпиона был...
Во всяком случае, Полежаеву эти стихи приписаны лишь на том основании, что доносчики - не сочинители и не бывает дыма без огня.
Вот и задумаешься. В истории русской литературы Полежаев - персонаж необходимый. Из пространства Пушкина в пространство Лермонтова - стихи Полежаева единственный путь, и совершенно прямой. Но Полежаев, без сомнения, писал бы другое и по-другому, если бы полковник Бибиков не так пламенно мечтал сделаться генералом. Лучшее стихотворение Полежаева (единственное у него, где сострадание самозабвенно) - "Мертвая голова" стало страницей "Хаджи-Мурата" и страницей "Приглашения на казнь"... - так что же получается? Что низкий осведомитель, почти наверное полубезумный, был тайным агентом Судьбы, доверенным лицом Неизвестного Автора?
Между прочим, сын этого самого Бибикова - помните юношу, обучавшегося ружейным приемам? - приятельствовал с Лермонтовым, и Лермонтов ему в альбом вписал какое-то стихотворение, - но альбом пропал.
ТЕОРЕМЫ ЧААДАЕВА
Масон. Франкоязычный литератор. Написал страниц триста, напечатал тридцать, из них прочитаны многими десять; за каковые десять страниц заподозрен в русофобии; наказан.
Там было нечто вроде примечания, как бы отступление от предмета речи: втолковывая одной знакомой даме, что быть настоящей христианкой в миру хоть и трудно, однако возможно, только надо построже обращаться с собственной душой, - автор вдруг спохватывается: не сбился ли на пересказ банальной религиозной брошюры. Вот тут-то и вырываются эти роковые слова:
"Я знаю, что это старая истина, но у нас она, кажется, имеет всю ценность новизны. Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах, и даже у народов, гораздо более нас отсталых..."
Подцензурный текст звучал мягче. Остановись Чаадаев тут, вернись он хоть на время в основной сюжет: реализация идеи христианства как смысл истории, - судьба Чаадаева была бы другая. Наша с вами, пожалуй, тоже. Мнительный, но тщеславный гвардии капитан предпочел продолжать движение: напролом, сквозь отрицательный, сквозь опасный пример - к высоте, только ему видимой. ("С этой высоты открывается перед моими глазами картина, в которой почерпаю я все свои утешения; в сладостном чаянии грядущего блаженства людей мое прибежище...")
Он считал себя автором одной мысли - одной, но страшно важной для всего мира, - причем уверен был, что в "Философических письмах к г-же ..." выразил ее вполне. Когда через полтора столетия книгу напечатали обнаружилось немало занятных суждений, но "истина века" - эта единственная, ослепительная, неотразимая мысль так и не нашлась. То ли вдохновение обмануло Чаадаева, то ли от времени обесцветились чернила на рецепте, что выписал человечеству мнимый больной, - а это был рецепт христианского счастья.
Странное, не правда ли, сочетание слов? Сам-то Петр Яковлевич, как известно, зачем-то носил с собою повсюду рецепт на какой-то препарат мышьяка.
Но это уже после, потом... Когда он, бывший герой стихов Пушкина, сделался гоголевским персонажем. И не Маниловым, что было бы хоть отчасти поделом, - его объявили Поприщиным, ославили Собакевичем...
Отчего не допустить, что и впрямь не без воспоминания о мученике мартобря поставлен был злорадный августейший диагноз: "Смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного"?
А "Ревизору" император аплодировал - и Чаадаев чуть не плакал: "...Никогда ни один народ так не бичевали, никогда ни одну страну так не волочили по грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось более полного успеха... Почему мы так снисходительны к циничному уроку комедии и столь недоверчивы к строгому слову, проникающему в суть вещей?.."