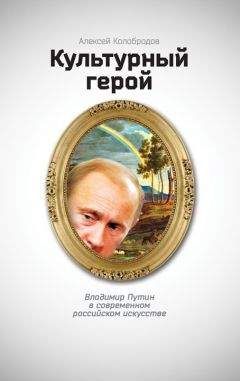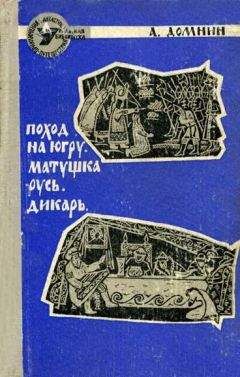Алексей Колобродов - Захар
Да-да, агитки 1914 года, начала «Второй Отечественной», как её тогда в России называли, своеобразные предтечи «окон РОСТА» уже Гражданской войны.
Было и ещё, не менее забавное:
Обвалилось у Вильгельма
Штыковое рыжеусие,
Как узнал лукавый шельма
О боях в восточной Пруссии.
Опустив на квинту профиль,
Говорит жене – Виктории:
Пропадает наш картофель
На отбитой территории.
Любопытно, что в воспоминаниях, кажется, Бориса Лавренёва о Маяковском стишки эти приписывались почему-то Вадиму Шершеневичу, иллюстрируя продажность и беспринципность богемы футуристического направления, которую Маяк якобы к началу войны многократно перерос и от себя отбросил, как фантики.
(Лавренёв перемешал всё довольно причудливо: в реальности вместе с Маяковским над плакатами и открытками работали Малевич, Лентулов, Ларионов, Чекрыгин, И.Горский, Д.Бурлюк.)
Словом, фраза «я с первых дней войнищу эту проклял, плюнул рифмами в лицо войне» – некоторое, безусловно, поэтическое преувеличение.
Параллельно мы с Захаром вели разговор на любимую тему – о послереволюционной литературе (в части влияний известных и сложившихся на тот момент авторов на так называемых «пролетарских поэтов»); Захар обнаружил, что влияние имажинистов – Есенина и, в первую очередь, Мариенгофа, – было много реальнее и мощнее, чем, казалось бы, подразумеваемое и естественное влияние Маяковского и футуристов.
Захар, думаю, своими замечательными открытиями ещё поделится – а я, собственно, опять про другое. О неприятии Маяка «пролетарскими», о недоверии ему, которое его страшно уязвляло и раздражало всю послереволюционную жизнь, от «Пролеткульта» до РАППа. Сами по себе хунвейбины от поэзии его особо не напрягали, он вполне остроумно от них отбивался, но за «пролетарскими» ощущалось хмурое внимание власти и оценка его таланта и преданности в чисто политтехнологических категориях.
Да, вожди – Троцкий, а потом Сталин – периодически цыкали на литературных радикалов, утвердили и профинансировали институцию «попутчиков», но это никого не должно было обманывать. «Наши мысли правильные».
А причина подобного отношения, надо полагать, именно эти военные агитки – их хорошо помнили. То есть в топку шло и дворянство, и непонятный якобы массам футуризм, и карты с бильярдом («ля богема»), но именно пропаганда в «империалистическую» (плюс медалька «За усердие» от царского правительства), похоже, выглядела главным и явным криминалом. «Участие в патриотическом угаре». Всё можем человеку простить, но вот ежели этот человек… У большевиков были свои, явные и неявные, поводы полагать ту войну набором Х-файлов, нежелательных для раскрытия.
А тут ходит красная молодёжь, ждёт и приближает мировую революцию, видит окна РОСТА – сатиру на Врангеля и Юденича, и чисто механически вспоминает про «битых немцев тысяч сто вам» и «разлетался над Варшавой». Ну, – огрубляя, конечно, ситуацию, – представьте реакцию сегодняшних нацболов – добровольцев Донбасса – на прославленного телеведущего Владимира Рудольфовича Соловьёва со всем его бэкграундом. «Талантлив, но мерзок», – как говаривал Довлатов.
Есенина, конечно, тоже попрекали императрицей Александрой Фёдоровной и великими княжнами, и Есенин от этого бесился, но всё же его история несколько другая – он с любой властью играл и придуривался, была в нём толика юродства, привитая Клюевым, он не лез в политические первачи, подобно Маяку, и был тоже куда как уязвим – однако не в качестве рыцаря и жертвы революционного пиара.
Между тем, оба поэта прекрасно понимали силу и действенность наездов «по бэкграунду».
У Маяковского – «мы спросили бы его – а ваши кто родители? / Чем вы занимались до 17 года? / только этого Дантеса бы и видели» – эдакая шутовская неуверенная победительность, в подтексте – сомневающаяся в своём праве задавать подобные вопросы.
РАППовский литератор Тарасов-Родионов, выпивавший с Есениным накануне отъезда Сергея Александровича в Ленинград, где случилось то, что случилось, подробно беседу с поэтом зафиксировал. Поддатый Есенин хвастал: у него якобы имеется поздравительная «телеграмма Каменева великому князю Михаилу Александровичу». Льва Каменева – на тот момент одного из главных большевиков – она, безусловно, страшно компрометировала, тем паче что в союзе с Григорием Зиновьевым и Надеждой Крупской он тогда организовал «новую оппозицию». Всё это должно было доказывать, что он, Есенин, не какой-то отвлечённый лирик, а парень ушлый, тёртый, «в теме». Тарасов-Родионов захотел на документик взглянуть, но Есенин, натурально, тему замотал.
* * *Едва я познакомился с Прилепиным, мы обнаружили одну на двоих общую привязанность к поэзии и личности Сергея Есенина, начавшуюся в детстве и не отпускающую до сих пор. Именно тогда Захар поделился давней мечтой – сделать большую книгу о Есенине, а я нагловато напросился – нет, не в соавторы, но в подносчики идей и материалов.
С тех пор наши есенинские штудии продолжались в диалогах, очных и – чаще – заочных, фейсбучных записях и в личной переписке, были и совместные открытия, и споры – не в застольном яростном стиле, но, скорее, спокойном и деловом – с уточнением формулировок, хотя никакой реализации проекта под ключ не просматривалось. Чистое удовольствие от процесса. Несколько фрагментов растянувшегося на годы поиска новых смыслов в Есенине я хотел бы привести в финале этой главы.
* * *В драматической поэме «Страна негодяев» (писавшейся главным образом за границей) центральный персонаж – бандит Номах. Всем прекрасно известно, что это довольно элементарно зашифрованный Нестор Махно. И вроде как иных вариантов не обсуждается, поскольку Нестор Иванович вызывал у Сергея Александровича живейший интерес (см. «Сорокоуст», переписку с Женей Лифшиц, ту же «Страну негодяев: «Кто сумеет закрыть окно, / Чтоб не видеть, как свора острожная / И крестьянство так любят Махно»). Помимо всего прочего, Махно должен был стать главным героем поэмы с говорящим названием «Гуляй-поле». До нас дошёл из неё единственный отрывок, мускулистый и афористичный, посвящённый вовсе не Махно, а Ленину («Ещё закон не отвердел, / Страна шумит как непогода…» и пр.).
Была ли поэма? Вряд ли. Впрочем, согласно Вольфу Эрлиху, Есенин хвастал, будто его «Гуляй-поле» по объёму больше пушкинской «Полтавы».
Но. Во-первых, Номах именно бандит, а не повстанческий батько, никаких политико-анархо-крестьянских мотивов в его деятельности нет (кроме ненависти к комиссарству, но это традиционное отношение разбойника к власти); банда его промышляет чистым криминалом, идейности ноль, это, современно выражаясь, ОПГ.
Во-вторых, банда Номаха гуляет не по Украине вовсе, а где-то в самарско-оренбургском Заволжье, по пугачёвским местам. Во второй части Номах оказывается в Киеве, уже теплее, но история гражданской войны на Украине свидетельствует, что Махно как раз особой стратегической заинтересованности к матери городов русских не проявлял.
В-третьих, Номах, судя по монологам и репликам, вовсе не народный вождь, а деклассированный лидер из интеллигентов.
Гамлет восстал против лжи,
В которой варился королевский двор.
Но если б теперь он жил,
То был бы бандит и вор.
А ещё деревенское прозвище Есениных – Монахи, то есть фамилия их вполне могла быть – Монаховы. И где-то на подсознательном уровне Сергей мог называть себя Монахом (про религиозные мотивы и образы – христианские, языческие, сектантские – в ранней, и не только ранней, поэзии говорить излишне).
То есть Номах – это ещё и анаграмма Монаха. Тоже довольно просто зашифрованное альтер-эго автора. Сравним с процитированным:
Если б не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.
Лирическая исповедь из «Москвы кабацкой» и «Страна негодяев» писались почти одновременно.
Надо полагать, Номах, помимо прочего, своеобразный символический мостик между Сергеем Есениным и Нестором Махно (кстати, и созвучие Махно с монахом должно было ему льстить).
Любопытно, что Прилепин взял в качестве литературного имени деревенское, родовое имя Захар (того самого прадеда, который бил жену, вставши на лавку, и который под своим именем фигурирует в «Обители»). Принял есенинскую эстафету.
* * *Есенин – поэт какой угодно, но только не центонный. Да и термина такого ещё тогда не знали, и Ерёменко с Кибировым не родились. Когда Есенин использовал в стихах чужие строчки – редкая для него практика, – всегда закавычивал; выглядело немного по-школьному.